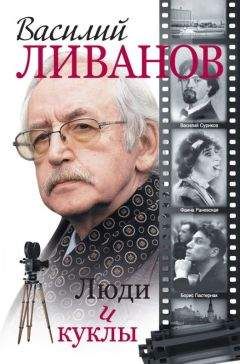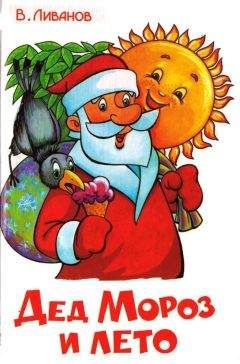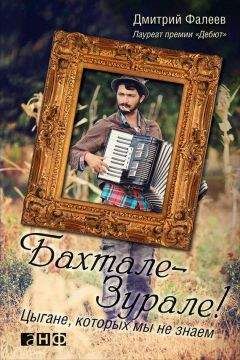Александр Ливанов - Начало времени
Дом наполняет острый, аппетитно щекочущий ноздри луковичный запах. Отец садится к столу. Как ни скудеп обед, как ни спешит отец, но есть стоя или, пуще того, жевать на ходу — для мужика не просто неприлично, а вещь совершенно немыслимая. Хлебу–соли должно быть оказано почтение, и отец сидит на лавке, жует сухой ломоть сосредоточенно, истово, неторопливо. Хоть он давно уже певерующий и лба не перекрестит перед едой, но так есть он приучен с детства, в доме своего отца (и моего набожного, по словам матери, деда), когда еще еду предваряла молитва. Мать делала множество попыток вернуть отца богу, терпеливо и долго просила его хотя бы снизойти к молитве перед едой — отец только отмахивался. Во всем, казалось бы, отец усматривал в матери и «бабьи мозги» и «дурную Хыму», а вот пад верой ее даже и не подтрунивал! Марчука, как‑то заговорившего, как это, мол, так — Карпуша сам неверующий, а в жене такое терпит — отец довольно резко прервал: «Хай! Это ее бабье дело!»
Но, видно, отцу, уплетающему сейчас горбушку, натертую луком, не приходится ни «мудро воздерживать аппетит», пи испытывать «короткий праздник», ни «вкушать семейные радости». Может, и впрямь молитва к месту в доме богатея Терентия, где обед длится добрых часа полтора, где на столе и жареная баранина, и домашняя свиная колбаса, и разносолы?..
Нет, я согласен с отцом: такой обед и молитвы не стоит! Пусть Терентий благодарит бога за «ниспосланную пищу». Да и жена его — хозяйка в доме, не то что моя мать — батрачка и поденщица…
Обедая, отец не спросит меня, поел ли я? Дети — забота матери. Впрочем, он, вероятно, знает, что и я, проголодавшись, доберусь до мисника, до хлеба и луковицы. Матери нет дома, она работает «на экономии» — на прополке буряков. Отец велит мне принести воды из кадки, стоящей в сенцах, берет у меня двуручную медную кварту и с удовольствием запивает свой обед. Сытно икнув, он в горсть смахивает крошки со стола и отправляет их в рот. Это тоже часть ритуала мужицкого обеда. Ронять крошки или, не дай бог, дать упасть на землю куску хлеба — тяжкий грех. Упавший на землю кусок хлеба я приучен отцом тут же поднять и поцеловать. Это одновременно и как бы признание любви к хлебу, и просьба о милостивом прощении за грубость. Привычным жестом — кончиками пальцев — влево–вправо разгладив усы, отец говорит:
— Бог напитал — никто не видал… Сбегай‑ка к попу, глянь, дома ли?
Я бегу к батюшке Герасиму. Сквозь щелку между замшелыми досками калитки, обвитой ржавым хмелем и дикой ежевикой, заглядываю в поповский двор. Дома батюшка! Он сидит на скамеечке в палисаде, буйно заросшем сиренью. Батюшку я застаю, как говорится, «не при форме». Ни парадной бархатной рясы, ни такой же камилавки, ни даже соломенной шляпы сейчас на нем нет. На дворе такая теплынь, а батюшка сидит в валенках и в башлыке; это он, видимо, так от жары спасается, потому что остальную одежду его составляет просто исподнее. И вправду получается, как отец говорит: чем больше батюшка стареет, тем больше он дуреет. Надо же придумать такое: подштанники и валенки, нательная рубаха и башлык!
Батюшка сидит задумавшись, руки прижаты к груди. Если бы не башлык и валенки — ну, прямо святой, из тех, какими вся церковь внутри расписана. Старчески безгрешное лицо его и впрямь как у святого — так оно далеко от жалких мирских забот, земных печалей и страстей человеческих. Но сами земные печали, видно, не желают оставить батюшку Герасима. Он начинает покашливать — чем дальше, тем больше, и вот уже кашель трясет его всего, впалая грудь его, заросшая кудрявой сивой шерстью, ходит ходуном, точно мех в кузне Остапа…
Довольный своей разведкой, я возвращаюсь домой. Даже поповский Полкан не учуял моего прихода. Выслушав меня, отец, вместо ожидаемой похвалы, говорит мне: «Ну пошли к рабу божьему Герасиму». Вид у отца какой‑то непривычный, лукаво–озабоченный. Странно. Я наконец догадываюсь, что отцу хочется поговорить с батюшкой о свадьбе Степана и Горпины. Но зачем он меня берет с собой?
— «Отче наш» ты, конечно, знаешь? — по дороге уточняет отец. — Спросит батюшка, говори: «Знаю». И не стесняйся, прочти ему молитву. Не спеши только, слова не глотай. С чувством, с толком, с расстановкой. Ну, давай; если собьешься, подмогну: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земле».
Я едва успеваю за отцом. Я удивлен, что отец не молится, а молитву знает! И словно догадываясь об этом, отец говорит:
— Молитвы знать — не грешно! Люди их придумали, а не бог. Значит, и смысл вложили, и лад. Зря, что ли, на душу воздействуют? Значит, молитва — что та же песня или тот же стишок. Это я признаю!
Но вот уже мы втроем сидим на поповской скамейке. Грозди сирени торчат над нами как сизо–лиловые факелы. А в глубине шатра сиреневого, в истоме мирно квохчут поповские куры. К благоуханию цветущей сирени, резеды, анютиных глазок, бархоток и похожих на задиристых рыжих петухов королевских кудрей, то там, то здесь натыканных в палисаде, примешивается резкий запах свежего куриного помета.
Прежде чем принять нас, батюшка отправился в дом и облачился в рясу. Это уважение не столько, может, к нам — не бот весть каким почетным гостям, — сколько к сану своему.
Отец начинает разговор издалека: о погоде, о видах на урожай («белянок–капустниц видимо–невидимо: яровые хороши будут»), о ломоте в крыжах («дождь само впору угодит»). Затем, как бы вдруг заметив мое присутствие, говорит батюшке:
— Вот тоже грамотей будет! Уже в книги ваши заглядывает!
— Ну это ни к чему, — опять закашлялся батюшка. — О господи помилуй, наказанье сущее… Сквозняки летом в церкви. Паче, чем зимой. А «Отче наш» знаешь?..
Я с готовностью киваю головой и доверчиво смотрю в голубые, незабудковые глаза батюшки. Окаймленные красными старчески–воспаленными веками, они мне почему‑то еще напоминают глаза старого–старого голубя. Отец незаметно мигнул мне: дескать, давай. И пока батюшка снова не закашлялся, я, по–моему, вполне «с чувством, толком, расстановкой» прочитал «Боже еси на небеси».
— Ну славно, ну добре, — говорит мне батюшка, неуклюже и застенчиво гладя меня по голове и одновременно слегка отталкивая эту же поглаживаемую голову, — ступай в сад, погуляй…
В саду я начинаю понимать уловку отца. Я — вроде червяка на крючке, на который должен был клюнуть батюшка!
Яблоки и груши в саду пока еще в поре несоблазнительного зеленого младенчества. Резко пахнет мятой, укропом, смородиновым листом. Матово рдеет малина — одни ягоды пунцовые, другие — цветом потемней, как бы слегка притомленные на солнце. Я срываю пару ягод, кладу в рот — вдруг вспоминаю, что кроме доверчивого и щедрого батюшки (не по недомыслу же отправил он меня в сад? Мог бы сказать — за калитку, на улицу), существует и матушка Елизавета. Пусть лучше воробьи склюют всю малину, чем я попотчуюсь ягодкой–другой!
…Нет, не воспользуюсь я добротой батюшки! Того гляди — ему за меня попадет от жадной попадьи. И тогда он, главное, не обвенчает Степана и Горпину. Пусть уж лучше одни воробушки порайствуют в малиннике.
А воробушки — те не теряют время зря. Летают себе, а клювиком наловчились прямо на лету стаскивать шапочку–ягодку с белого шипчика. Много, вижу я, шипчиков торчат, точно незажженные свечи.
Словесное общупывание друг друга у отца и батюшки уже кончилось. Это уж так заведено на селе. И вроде видит мужик мужика насквозь: и что надо, и зачем пришел, а оба виду не подают, издалека все начинают. (Прийти и сразу выложить суть дела — это позволит себе разве что очень несерьезный мужик, пустомеля и брандахлыст.) Теперь я застаю настоящий разговор. Он налажен и действует, как хороший локомобиль под полными парами на «экономии»!
— Мне‑то что, венчанье, не венчанье, — мне все одно! По совести люди сошлись, по совести и жить будут. И господь бог ваш их благословит, — я так понимаю. Но — что люди добрые скажут?
Отцу, выходит, вовсе не нужно то, за чем он пришел? Ну и ну. Хоть батюшка и учился в разных семинариях — по части дипломатии ему с мужпком потягаться, видать, кишка тонка!
— Неправильно толкуешь ты, Карпуша. Умный ты человек, газеты и книжки читаешь, а речи твои пустые. Совесть — она потому и есть у людей, что существует бог и церковь, обряды и святыни. Потому, что есть мы, духовные особы, которые блюдем от скверности святыни эти. Без святынь, Карпуша, нет совести… Без святынь нельзя— озвереют люди, друг друга изведут. Не ножом, так бесовством. И страдать, и мучиться должен человек… Иначе — откуда ей, совести, взяться?
Отец терпеливо и настороженно слушает. У него потаенно–хитрое лицо рыбака, ждущего, чтоб рыбка, клюющая наживку, проглотила крючок, а там не упустить момент — дернуть.
— Так и скажи, Карпуша, и миру, и партейцу своему Марчуку, да и комнезаму Гавриле тоже, что все сделаю по христианскому, по православному обычаю нашему. Обвенчаю я молодых, даже на свечку не потратятся. Дело божеское… Понимаю, понимаю — не они тебя послали. А ты скажи! Кто ж к невенчанным на толоку придет?