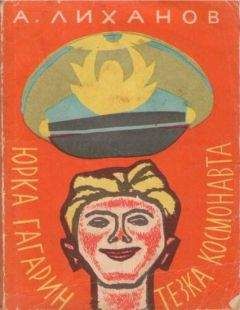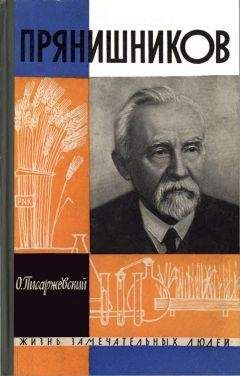Альберт Лиханов - Лежачих не бьют
— Дак их еще хорошо кормят! — возмутился Вовка.
Я, надо заметить, тоже не раз обращал внимание на привлекательные запахи, хотя в миски не заглядывал. И Федот печально кивал головой, развязывая свой вещмешок: наставала пора и его обеда.
В мешке всегда был нарезанный хлеб, пара банок тушенки, нож, которым ее можно открыть. Да вот, пожалуй, и всё. Сухомятка, как говорила бабушка. Кстати, с тех пор как Федот стал носить нам воду, бабушка готовила сержанту чай, без сахара, конечно, — вот сахар-то кусковой как раз еще и был всегда в его мешке, да подбрасывала ему лучку — зеленого или репчатого с нашей грядки, для разнообразия, или репку какую, или головку чесночку.
Федот свистел своим подручным охранникам, они поочередно приходили на лужайку и мирно обедали с командиром, ни на что не ропща.
Выходило так, что пленных кормили если и не лучше, то хотя бы горячим. А охранявшим их солдатам выпадала сухомятка — спасибо за бабушкин чай.
— Кормят пленных, пояснял Федот, почти как наших солдат. Конечно, не фронтовиков, а тыловиков. Скажем прямо — похуже, но не намного.
— Почему? — удивился Вовка.
— Так положено, — туманно отвечал Федот. — Понимаешь, малец, — помолчав, глубокомысленно пояснял сержант, — когда они с нами воевали, они были наши враги. А как взяли мы их в плен, сразу стали за них отвечать! Их и кормить надо. И поить. И обмундировывать, если кто прохудился. И обувать. И в бане мыть. Да и не как-нибудь, а с мылом. Ну, и чтоб не задаром они ели, работу какую-никакую им давать. А то ведь чистый курорт!
— Выходит, — строжился Вовка, — не надо их и плен брать! А убивать на месте!
— Эк ты хватил, парень! — несильно удивился Федот. Может, и ему такие мысли приходили? Вот он сидит тут, охраняет каких-то пленных, а мог бы воевать. Но Федот был явно не тот. — Чего бы я тогда теперь делал? Опять под пули лез? Но ведь Господь до трех раз считает: один раз меня контузило, второй — осколок прилетел. А в третий — грудь в крестах, голова в кустах?
С этим трудно было спорить. Негероическим каким-то оказывался Федот, но ведь уже и поранило его немало. Может, в самом деле, хватит?
Надо сказать, говорил такие речи Федот с оглядкой, нам двоим только, мальчишкам, а когда приближался, чтобы пошамать, солдат из его боевой охраны или когда бабушка моя выходила, язык-то прикусывал.
В общем, Вовка к своему забойному вопросу подобрался через много наших-то иных подробностей и подозрения у Федота не вызвал:
— А как они оправляются?
— Ты зна-а-аешь! — восхитился сержант. — Ты прямо в пупок попал. Как в меня осколок! Подумай-ка! Их тут ровно двадцать штук! Один и тот же состав! И я поражаюсь! Каждый день лежу здесь и думаю: как это они? Ни разу за все рабочее время по-большому никто не оправился. По-малому — бегают! Вон туда, в лопухи! А по-большому — ни разу. Всё дивлюсь: то ли дисциплина у них такая, то ли терпение невиданное. То ли, может, какой немецкий особенный режим — утром, при бараке, исполнят все свои дела и весь день не хотят.
17
Вовка закручинился.
Немцы поели, веселей застучали своими молотками по светлому камню, задвигались на пространстве, размеченном шпагатом, убрали, перекусив, свои пайки, и охранники угостили, ясное дело, нас бутербродами с говяжьей тушенкой — неплохое, между прочим, подспорье, и можно было бы, по чести-то, слегка повеселеть, но верный мой кореш тосковал.
Сидел нахохлившись, будто снегирь в мороз, — а как, интересно, снегири такую жару переносят и куда они вообще-то на лето убираются? — вот вопрос так вопрос! Глядел, в общем, Вовка на пленных немцев неотрывно, смотрел равнодушно и спокойно, а на мои предложения спрятаться в прохладном доме отмахивался.
Я пожимал плечами, уходил домой, читал, оглаживая ладошками золоченые свои книги, находя в них выражения, где-то услышанные, совершенно непонятные и в то же самое время, как я чувствовал всей своей небольшой душой, просто великолепные. Например, такие слова: «Поверил я алгеброй гармонию». Надо же сочинить такое Пушкину! И опять ведь в «Моцарте и Сальери» это говорит будущий убийца. «Поверил» — у Пушкина значит проверил, выходит, он был умный человек, этот Сальери, раз алгеброй гармонию проверил, наверное, это самая правильная проверка, отчего же он тогда так завидовал Моцарту? Ведь поверил же, и правильно поверил, а вот — на тебе!
Всякие такие заключения меня не то чтобы мучили в ту мою нежную пору, но как-то не давали покоя. Мне казалось, что я не очень умный, раз не понимаю таких вещей, а спрашивать взрослых неловко, надо же до чего-то добираться самому. И так выходило, что, не додумавшись, складывал все непонятности на отдельную полку в своей голове.
«Нет правды на земле, но правды нет — и выше».
«Не всё я в небе ненавидел, не всё я в мире презирал».
«Поверил я алгеброй гармонию».
Прибавив к другим, недоступным мне еще одну мудрую, но непонятную мысль, я выходил на улицу и видел Вовку во всё той же угрюмой позе.
Он все смотрел, смотрел на немцев, как кошка на воробьев, которые копошатся в навозе, но они для нее далеки, а потому недоступны, и потому она ждет, когда один какой-нибудь молодой разгильдяй, утратив ответственность и чувство самосохранения, подскочит поближе.
Так неотрывно смотрит на поплавок упорный рыбак, принявший рыбью игру в терпение: надо набраться много сил, чтобы ленивая тень в глубине, услышав твое заклинание: «Клюнь, клюнь, клюнь, пожалуйста», — метнулась вверх и заглотила заманчивую наживку.
Вовка был также похож на охотника, засевшего в кустах и ожидающего, когда запоет, затокует глухарь.
Да, Вовкин вид можно было сравнить с тысячами состояний, вместе взятых, когда люди хотят добиться своего и ради этого готовы на любое, самое даже небывалое для них терпение.
И он дождался!
Не просто дождался — он победил!
Все трое, включая сержанта, мы сразу увидели, как сперва несколько раз остановился, будто споткнулся, тот мой обидчик в майке с длинными лямками салатового цвета. Потом он заметался по площадке, обтянутой шнуром, подскочил к Вольфгангу и что-то стал ему торопливо объяснять.
Тот растерянно заоглядывался и двинулся к Федоту, одной рукой показывая на салатового немца, а другою хлопая себя по животу.
— Наконец-то! — глухо проворчал Вовка и победно распрямился.
Федот приподнимался с травы, ничего не понимая, глядя то на Вольфганга, то на трясущегося немца.
И вдруг тот побежал! Да как! Опрометью!
Так, наверное, бегут от овчарок, спасая свой зад! Так бегут, опаздывая на поезд и догоняя последний вагон! Так бегут с неволи, наконец!
Похоже, именно это вообразил один из безусых помощников Федота. Он вскочил, может быть, даже спросонья, и, схватив винтовку, крикнул:
— Стой! Стрелять буду!
Солдат даже не целился.
Мне кажется, все-таки патронов им, и правда, не выдавали на эту службу. А трехлинейки образца 1896 года таскали они просто для собственной уверенности.
Тем не менее, Федот по-боевому гаркнул:
— Отставить!
И заржал. Да и все заржали, включая немцев, потому что тот зеленомаечник пробежал полдороги до колонки, свернул в сторону к нашему забору, заросшему лопухами, и скрылся в них. Меж тем скрыться полностью ему не удалось, голова с большим носом крутилась на тонкой шее, лопухи шевелились, и тут раздался не боевой, но отчетливо слышимый выстрел.
— Фу-у! — изображая отвращение, но в то же время и радостно, крикнул Вовка. Все засмеялись опять. Только он один не рассмеялся. А чего смеяться над тем, чего сам добиваешься?
Вольфганг смеялся зря. Минуточку спустя, как зеленомаечный вернулся из лопухов, он снова ринулся туда, а за ним вдогонку бросился еще один пленный. А за ним — еще.
Минут за пятнадцать, не больше, в лопушиные заросли сбегало человек семь, не меньше. Работа у немцев решительно затормозилась. Вольфганг-не-Амадей стал переставлять своих работников, ведь те, кто бегал в лопухи, не могли забивать камень и их перевели таскать носилки с песком или снимать слой земли. В общем, вся работа покосилась.
А сквозь лопухи, изрядно помятые, светились бледные немецкие задницы.
— Да-а, — задумчиво проговорил Федот, ни к кому не обращаясь. — Вот это командованием никак не предусматривалось.
А потом обернулся к нам:
— Может, вы, — сказал он обоим, — и победили, но сорвали мне весь план.
Вовка пожал плечами первым. Я вторым.
— Да ладно вам, — сказал Федот-да-не-тот, — я ведь все видел.
И тут на меня что-то накатило, и я брякнул, как мне показалось, и невпопад, и в точку. Бывает такое? Еще как! В ответ Федоту я сказал, его мысль продолжая:
— Но… поверил алгеброй гармонию?
Он уставился на меня так, будто я, например, свободно заговорил по-немецки. Потом опомнился и ответил:
— В каком-то смысле — да.