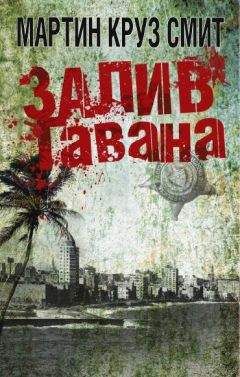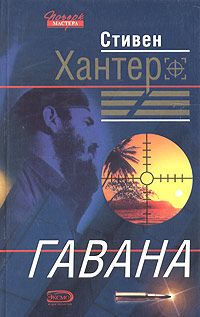Гавана, год нуля - Суарес Карла
Было почти пять часов вечера, и застать в это время кого-то на рабочем месте — дело практически безнадежное.
— Это не день, а какая-то катастрофа, — сказала я. — Все идет вкривь и вкось, к тому же я валюсь с ног от усталости.
Может, он знает, где тут поблизости можно выпить чашечку кофе? Леонардо знал одно местечко: кафешка не то чтобы супер, но, если я не спешу и согласна его подождать, мы сможем выпить кофе вместе.
— Да, с делами на сегодня покончено, — сказала я, уселась возле его стола и стала ждать конца рабочего дня.
Именно тогда он спросил меня об Анхеле.
Было вполне естественно, что он задал этот вопрос, ведь познакомились мы с ним именно благодаря Анхелю, но, откровенно говоря, вопрос застал меня врасплох: о чем бы я в этот момент ни думала, но уж точно не о своей любви. Поэтому, прежде чем ответить, я секунду поколебалась:
— С ним все в порядке, но в последние дни я его не видела.
Леонардо в ответ сообщил, что сам он тоже не видел его с того вечера в ресторане, однако хорошо бы созвониться — Анхель ему нравится.
— А Барбара? — поинтересовалась я, чтобы перевести разговор на другую тему.
— Все в порядке, но в последние дни я ее тоже не видел, — ответил он.
Пробило пять, мы вышли, Леонардо взял с паркинга свой велосипед, и мы отправились пешком в то самое местечко. Он купил мне кофе и, поскольку я никуда не торопилась, предложил пойти посидеть на Пласа-де-Армас — подышать свежим воздухом и поболтать.
Леонардо не из тех, из кого нужно клещами вытягивать слова, скорее, эти слова всегда теснятся у него во рту как в прихожей, готовые выскользнуть в малейшую щель. В тот вечер он наговорил с три короба. Я узнала, что он разведен и у него есть ребенок, видеться с которым по своему желанию он не может, потому что мальчик живет с матерью в Санта-Фе, то есть очень далеко, а сам он вернулся в Серро, в дом своих родителей, где в старом гараже оборудовал себе жилую каморку. Преодолевать такое расстояние на велосипеде непросто, поэтому сына он берет к себе как предписано: раз в две недели, и время от времени сам к нему ездит. Я узнала, что у него уже вышло в свет несколько книг — сборники рассказов и стихов; но с «особым периодом» пришел и издательский кризис, дефицит бумаги и сокращение публикаций, вследствие чего он уже довольно давно не видел своего имени на обложке. Узнав, что он пишет стихи, я порадовалась, потому что поэзию я люблю, и он тут же предложил дать мне почитать его сборники. «Они хорошие», — заверил он, по крайней мере, так в свое время отзывались о его творениях критики. Еще я узнала, что он перепробовал много разных рабочих мест, но в конце концов остановился на своей нынешней работе. Писатель, сказал он, это такое сложное существо, улавливающее нечто такое, незаметное для остальных, и обладает способностью углядеть красоту там, где другие видят только мерзость и свинство, поэтому-то писателю необходимо смешаться с миром, при этом не позволяя миру себя поглотить. «Понимаешь, что я хочу сказать?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, стал объяснять, что именно по этой причине работает там, где работает, ибо ему необходим ежедневный контакт с разными людьми, но он не может позволить себе работу, которая пожрет все его время. И вот тут-то я вставила свой вопрос по поводу его нового литературного проекта. Леонардо улыбнулся; потом вытащил из кармана пачку «Популар», предложил сигаретку мне, но я не курю. Тогда он устроился поудобнее на скамейке, глубоко затянулся, взглянул на меня и изрек:
— Мой новый проект — настоящая бомба.
Я улыбнулась в ответ и, естественно, захотела узнать подробности.
Это был его первый роман, замысел оказался весьма непростым и амбициозным. Роман, который можно назвать историческим — в кавычках. Умберто Эко рискнул ввести латынь в «Имя розы» и добился успеха. Леонардо же хотел ввести в роман науку, но несколько иначе. Он задумал произведение, в котором почти не останется места тому, что мы называем художественным вымыслом, потому что все в нем будет основано на реальных фактах.
— Конечно же, — пояснил он, — все, что пишется, абсолютно все, даже книги по истории, — художественный вымысел, поскольку все тексты проникнуты интерпретациями своих авторов. Хулия, понимаешь, о чем я?
Я кивнула, и он продолжил:
— Например, если спросить меня и вон его, по отдельности, что происходит сегодня вечером на площади, каждый из нас выдаст отдельную историю, не похожую друг на друга по той причине, что он и я — разные люди и у нас разные точки зрения. Мы не передаем реальность — никогда, — мы создаем фикцию, художественный вымысел.
— Интересно, — заметила я, но Леонардо был слишком погружен в себя, чтобы меня услышать. Кажется, он и смотрел-то вовсе не на меня, а вглядывался во что-то очень далекое, потустороннее.
— Самое сложное, — продолжил он, — сделать так, чтобы реальность читалась как вымысел, чтобы читатель устраивался поудобнее на своем диване в полном убеждении, что в очередной раз имеет дело с литературным обманом, но в один прекрасный момент — хлоп! — абсолютная реальность падает ему на голову: любая, даже самая мелкая деталь доказуема, подтверждена доступными читателю историческими данными, и тогда все пространство вымысла, в котором он уже успел комфортно расположиться, трещит по швам, и читатель внезапно прозревает и понимает, что он по самую макушку погружен в историю — Историю с большой буквы. Как оно тебе: разве это не нечто особенное, нечто из ряда вон выходящее? — вопросил он, и на этот раз взгляд его и вправду был обращен на меня.
Несколько секунд я размышляла, а потом пробормотала, что в любом случае, согласно его же словам, рассказанная история все равно окажется вымыслом, ведь она целиком зависит от рассказчика. Похоже, Леонардо мой комментарий не понравился — рот его как-то скривился, а потом он ответил:
— Нет, если то, о чем ты рассказываешь, стопроцентно доказано.
Я рассмеялась и заметила, что ему бы не литературой заниматься, а математикой: это область, в которой доказательство — штука основополагающая. Но и в математике то, что доказано сегодня, завтра может быть пересмотрено, поскольку сами доказательства зависят от имеющегося на данный момент знания. Например, продолжила я, загоревшись, евклидова геометрия (здесь я, конечно же, имела в виду древнегреческого Евклида, а не своего друга) никогда не могла бы справиться с теми проблемами, которые решаются геометрией фрактальной, потому что каждая из них соответствует своему уровню нашего знания о природе, а они различны. Леонардо широко раскрыл глаза, а я, к счастью, сделала паузу, поскольку стоило мне произнести «фрактальная», как я тут же вспомнила о своем Эвклиде и поняла, что у меня совершенно вылетела из головы моя миссия на сегодняшний вечер. Я должна выжать информацию из Леонардо. А я совсем позабыла про лимон, позволив писателю увлечь себя речами. Леонардо улыбнулся, сообщив, что математика — совсем не его стихия и что эта самая математика в школе заставила его пережить немало весьма неприятных моментов, что его дело — слова, и да, конечно, он просит его извинить, потому что иногда говорит очень много, это правда.
— Тут не за что извиняться, наоборот, — ответила я, — это было чрезвычайно интересно и… как там зовут этого итальянца? Ну, с телефоном, он же герой твоего романа, так?
Леонардо закурил еще одну сигарету и сказал:
— Антонио Меуччи, заруби ты уже на носу, лиценциат, и забудь про Белла… — И прибавил: — Перекусить не хочешь? Тут неподалеку есть у меня один знакомый, пиццей торгует; зайдем?
Пицца. Пицца — блюдо с родины Меуччи. Таким изящным образом Леонардо поставил точку в сегодняшней презентации своего романа. Я сама была виновата, знаю, ведь вместо того, чтобы направлять разговор в интересующую меня сторону, я отдала инициативу в его руки и позволила себе увлечься тем, о чем он говорил. Вечно со мной так: начинаю разговаривать с мужчиной — и совершенно теряюсь. Как ни крути, моя задача — завязать с ним дружбу, а истощение тем для разговора в первую встречу делает следующую маловероятной.