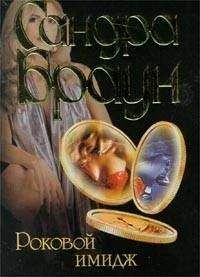Джулия - Ньюмен Сандра
— Нет, — с сомнением возразила Диана, — на меня не очень похоже. Впрочем, я действительно училась в Оксфорде, это правда. Так что с некоторой долей вероятности…
— Товарищ Винтерс, а можно задать вам один вопрос?
— Хочешь — задавай.
— Что находится в комнате сто один?
Диана вспыхнула недоброй улыбкой:
— Это ты при задержании услышала?
— Да. Всего один раз, но…
— Ох, это не есть хорошо. Ты будешь числиться как пособница, но не как зачинщица. Так или иначе, не отвертишься.
— Как это понимать? Меня ждут пытки?
Диана рассмеялась:
— Не будь дурой! Пытки здесь ждут каждого, это само собой. Нет, комната сто один — это особая статья.
— Да, я так и подумала, что это будут не просто пытки. Но до сих пор не понимаю: что может быть хуже?
— Поначалу и не поймешь, даже если я все объясню. Ну что, рассказывать или нет? Тебе это на пользу не пойдет.
— Все равно я хочу знать.
— Воплощение кошмаров — вот что тебя ждет в комнате сто один. Это твоя личная камера ужасов. Она и есть твой жутчайший кошмар.
— Жутчайший кошмар?
— Дай-ка я угадаю. — У Дианы сощурились глаза, на губах заиграла неприятная улыбка. — Гореть на костре? Да нет, по тебе не скажешь. Быть похороненной заживо?
— Я очень гусениц боюсь, — с надеждой выговорила Джулия.
— Не мели чепухи… Дай подумать… Ты любишь нравиться. Ага: обезображение! Вот что тебя ждет. С этим лицом тебе отсюда не выйти. Сделают тебя чудовищем из страшных снов и отправят погулять еще сколько-то по улицам — чтоб другие боялись карательных органов. Точно: обезображение. Давний излюбленный метод.
Первым порывом Джулии было заявить, что этого она как раз не боится. В самом деле, что такое обезображение? Допустим, удар по тщеславию, но не кошмар. У Эсси, к примеру, был жуткий шрам, но Джулия на него не обращала никакого внимания. И Эсси благополучно вышла замуж — в чем же тут кошмар?
И все равно от этих мыслей у Джулии подогнулись ноги. Ее прошиб пот, ей уже хотелось стучать кулаком в стены, чтобы добровольно предать всех знакомых или умолять надзирателей свернуть ей шею. А что еще она могла сделать, лишь бы только не позволить своим рукам дернуться вверх и заслонить лицо?
— А если я признаюсь, со мной ведь ничего такого не сделают? — спросила она. — Если расскажу им все, что они хотят?
— Размечталась! — фыркнула Диана. — Все мы признаёмся.
— Но если я назову имена? Что, если…
— Не поможет. По-твоему, ты очень много знаешь? Да ты даже не доперла, за что тебя сюда приволокли.
— Погодите, неужели вообще ничего нельзя сделать? Как такое может быть?
Диана пригляделась. Губы ее тронула все та же тонкая улыбочка.
— Ну, коль скоро ударит это по О’Брайену… хочешь небольшой совет? Который вряд ли поможет?
Не доверяя своему голосу, Джулия только кивнула.
— Ну слушай: постарайся выиграть время. Здесь говорят «комната сто один» — и это вправду комната. Совершенно особая, конечно. В нее можно напустить воды до потолка, направить языки пламени, закачать ядовитый газ. Для таких целей требуется комната сто один. Но есть еще и традиции. Если мужику должны всего лишь отсечь детородный орган, это непременно происходит в комнате сто один, а иначе у всех остается чувство незавершенности. Сама понимаешь, график там очень плотный. На каждую операцию теперь отводится всего пятнадцать минут. Бывают, разумеется, и более затяжные случаи, но это не про тебя. Ты — зубочистка. Тебя отпустят, просто чтобы избежать бумажной волокиты. Со временем, естественно, опять заберут и расстреляют, но для этого сто первая не понадобится… Да-да, советую потянуть время. Сама я не могу провернуть такой фокус, так что дарю… как тот кардиган — пользуйся. И передай от меня О’Брайену, что он стырил мою тему — насчет лица и сапога. Сам напрягай фантазию, Билл! Жалкий ремесленник! Передашь ему все это — и мы с тобой квиты.
Как по заказу, при звуке этого имени из коридора донесся грохот сапог. Джулия инстинктивно вжалась в стену. Диана хохотнула, с начальственным видом повернулась ко входу, и тут в камеру ввалилась кучка надзирателей. Из их гущи показался дознаватель — тот самый, который бесстрастно покуривал, наблюдая за избиением своего подследственного.
Диана как ни в чем не бывало спросила:
— Нил, что у нас сегодня?
— Боюсь, кончилось твое везенье, старушка. — Он скорчил сочувственную гримасу. — В сто первую.
— Очень остроумно. А теперь можешь сказать как есть: куда идем?
— В сто первую.
— Чушь. Я тут и двух недель не отсидела. Не готова еще.
Дознаватель пожал плечами и вынул сигарету. Стоило ему щелкнуть зажигалкой, как Диана рванулась вперед и выхватила сигарету у него из пальцев. Он с улыбкой смотрел, как она затягивается, будто радовался прыти старинной подруги. А потом сказал:
— Ну извини. Ты же знаешь: это не мое решение.
— Вранье, — раздраженно бросила она. — За дуру меня держишь.
— Сама убедись.
Он достал из кармана сложенный листок бумаги, развернул и протянул ей.
Не без колебаний она взяла у него бумажку и в ярости пробежала глазами, не выпуская изо рта сигареты. То, что она прочла, явно ее подкосило. В считаные секунды от ее гнева не осталось и следа. Она на глазах превратилась в больную старуху, которая много чего претерпела и лишилась сил. В резком свете камеры лицо ее позеленело.
Тут дознаватель произвел некий жест, конвойные бросились вперед и грубо скрутили Диану. Ее выволокли в коридор, а она сыпала злобной бранью и приговаривала:
— Думаете, я перетрусила? Что у вас там приготовлено? Я высоты боюсь. Подвесите меня на верхотуре? И как же? Вам меня не напугать! Даже не пытайтесь! Ничего у вас не выйдет! Не выйдет! — С последними словами голос ее сорвался на первобытный вопль, резко умолкший, когда дверь с грохотом захлопнулась.
В этот миг внезапно очнулась третья сокамерница, о которой Джулия совсем забыла.
— Не доходит, что ли? — зашипела она. — Та тетка — подсадная, а ты взяла да и выложила ей все как на духу.
— Я далеко не уверена, что это подсадная, — холодно процедила Джулия. — И потом, все, что я сказала, и без того им известно.
— Откуда только берутся такие идиотки? Тебе подобные!
И женщина вновь забилась в угол.
Не прошло и минуты, как в коридоре снова загрохотали сапоги. Дверь со скрипом отворилась, впустив двоих конвойных. Один рявкнул:
— Уортинг шестьдесят — восемьдесят! На допрос.
20
За последние недели Джулия убедилась, что плохо подходит для пыток. Дознавателям требовался определенный сюжет. Тем или иным образом они вынуждали подследственных этот сюжет изложить, а боль служила гарантией правдивости. От Джулии они хотели услышать, что весь отдел документации опутан преступным сговором, цель которого — растлить население ложью. Ей надлежало признаться, что она заразилась этой крамолой, и разъяснить, как плетутся сети заговора.
Ни Уикса, ни свою работу в комнатенке над лавкой, ни таблетки, ни зампреда Уайтхеда упоминать не следовало. Иногда она это помнила… пыталась помнить. Но сама угроза боли сбивала ее с мысли, и, когда ей делали больно, из головы улетучивалось абсолютно все. Ей требовалось жить, оставаться в безопасности хотя бы еще на миг. Но более всего ей требовались любовь и прощение. Вероятно, от этого она и тупела.
В первый же день она порывалась рассказать их историю, но утратила нить и невольно забормотала:
— А Сайм сбежал, и мне уже было не залучить его в ту комнатку. Мы думали, он скрылся в Евразии.
За это ее подвесили к вкрученным в потолок крюкам; руки грозили вырваться из суставов, она задыхалась. После того случая она при каждом приближении тюремщиков начинала рыдать и умоляла подсказать ей, что нужно говорить. Но не такого ответа они ждали. И она поплатилась: ей стали рвать волосы, колотить дубинками по пяткам, а потом и хлестать по груди розгами, отчего на молочных железах вздувался рубец за рубцом и лопалась кожа. Дальнейшие ошибки приводили к тому, что ей в подушечки пальцев и в нежную плоть подъема ступней вгоняли остро заточенные ножи. Все ногти на ногах были вырваны, а потом и один ноготь на руке. Ощущение было такое, будто вместе с ногтем вырвали и кость; после этого признания полились совсем уж сбивчиво: дескать, Уинстон Смит — ханжа, Амплфорт планирует встретиться с Шекспиром, и, что бы ни говорили карты, она не верит, что там и вправду бунтари. Неправильно, неправильно, неправильно. Ей зафиксировали несломанную руку и стали гасить о ладонь окурки, а она смотрела, как будто этого следовало ожидать, но потом кричала так, что боль отзывалась в искалеченных ступнях и уже невозможно было вспомнить, о чем ее спрашивают.
![Джулия [1984] - Ньюман Сандра](/uploads/posts/books/285676/285676.jpg)