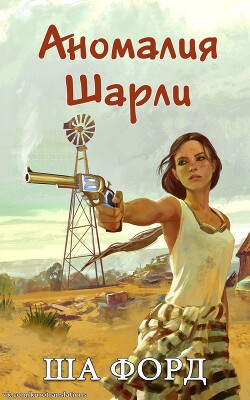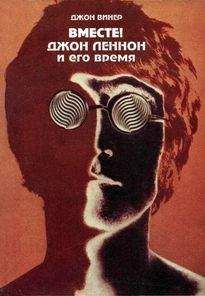Семейная жизнь весом в 158 фунтов - Ирвинг Джон Уинслоу
Но я заметил ему, что эффект туннеля может пропасть у спортсменов, которые не умеют думать. «Знаешь, зачем я это делаю? – спросил он меня. – У всех великих борцов есть свои собственные туннели – длинные, темные, пустые блуждания по своим длинным, темным, пустым котелкам. Я просто создаю моим интеллектуалам маленькую иллюзию. Я просто изображаю Платона».
Он не подбирал для соревнований легкий график; он просто подпитывал свои иллюзии домашними состязаниями. Как минимум дважды за учебный год он брал команду в поездку для участия в трех или четырех соревнованиях университетской Большой Десятки или Большой Восьмерки. Там, конечно, он всегда проигрывал, но делал это с достоинством. Обычно он добивался победы лишь в двух или трех весовых категориях, и далеко не все из его проигравших ребят давали сразу уложить себя на обе лопатки. Такой уровень соревнований был необходим, чтобы его команда могла побеждать дома. В Новой Англии не существовало студенческой команды, которая могла бы победить его. В свое турне он включал Лигу Плюща и обычно ежегодно вставлял в график соревнований встречу с одной из очень сильных команд восточного побережья. Он очень четко вычислял слабейшую из сильнейших команд и раз в год устраивал для своих «туннельщиков» большую неприятность. Это могла быть команда армии или флота; а однажды – команда университета штата Пенсильвания. Конечно же, он проигрывал на выездных соревнованиях, а на чемпионате восточного побережья ему приходилось драться изо всех сил, чтобы отвоевать приличные места хоть в одной-двух весовых категориях.
Ежегодно он брал лучшего борца и тащил его в одинокую и очень унизительную поездку на национальный турнир. В первых же кругах парня заваливали, но Уинтер и не ожидал ничего другого, он относился к этим ребятам по-доброму и никогда не вводил в заблуждение. Каждый год он вывозил только одного борца – всегда находился хоть один, прошедший квалификацию, – только для того, чтобы списать расходы на эту поездку за счет учебного заведения. «Это темная лошадка, всякое может быть», – говорил он на факультете. Это была безобидная ложь.
Уинтер понимал, что в Стилуотер в Оклахоме, а равно как и в Эймс в Айове, он никак не сумеет перетащить всю старую клетку с ее длинным туннелем. «Там, – говорил он, – у них есть свои собственные туннели. – И он трепал ребят по их косматым головам. – Классные туннели, очень надежные».
Мне было интересно заглянуть в его туннель – извилист ли он? Какой длины?
Но именно Эдит пригласила нас в тот первый вечер на ужин. Ее цели были ясны: она хотела поговорить со мной о писательстве. В свои тридцать она все еще никак не могла разродиться романом, но ее рассказы – в основном о частных, скрупулезно прослеженных житейских взаимоотношениях – публиковались главным образом в небольших журнальчиках, а один даже как будто в «Харперс» или «Атлантик». У нее было заведено ежегодно посещать писательский семинар, хотя получить степень вовсе не стремилась. Она еще индивидуально занималась с кем-нибудь из писателей, работавших в университете. Но не со мной; я числился на историческом факультете и сказал ей, что никогда не вел писательского семинара и никогда не хотел. Впрочем, она так интересно рассказывала о своей работе, что я согласился кое-что посмотреть. В последние два года в университете работал знаменитый Хелмбарт, но Эдит сказала, что никогда не любила ни его самого, ни его книг. Я признался, что мне приятно это слышать. Хелмбарт с его надменным менторством в области так называемого «нового романа» вызывал у меня тошноту. Мы с Эдит были единодушны в том, что если предметом художественного произведения становится сам процесс его создания, интерес к нему падает; нас, конечно, интересовала проза, но не та, где предметом прозы становилась сама эта проза.
Мы хорошо поговорили. Мне было лестно узнать, что, по крайней мере, одну из моих книг она прочитала – третью по счету, об Андреасе Хофере. Она поинтересовалась, почему я, определяя жанр моей книги, настаиваю на термине «исторический роман», который вызывает у нее неприятные ассоциации. Но я утверждал, что книги, не отражающие конкретный исторический момент, не отражают ничего. Мы так и эдак обсудили эту тему; но я ни в чем не смог ее убедить. Она сказала, что Северин прочел все мои книги. Я не скрыл удивления и посмотрел на него, ожидая комментария, но он в это время разговаривал с Утч по-немецки. «Конечно, Северин читает все», – сказала Эдит. Я не совсем понял: то ли она имела в виду, что он просто всеяден, то ли восхищалась, как много он читает. Эдит, разговаривая, не сводит глаз с собеседника, и речь ее очень оживляется бурной жестикуляцией, – возможно, эта привычка заимствована у Северина.
Она сказала, что Хелмбарт потратил немало времени, обсуждая ее комплексы; при этом он никогда не говорил о ее стиле или характерах. Однажды он заявил, что нельзя начинать писать, пока не можешь «словесно обрисовать стол, его душу и его половую принадлежность». Думаю, что это тот самый бред, который и делает Хелмбарта королем «нового романа».
Анализируя мою книгу об Андреасе Хофере, Эдит проявила проницательность и, пожалуй, великодушие. Я поделился с ней своей досадой, что мою работу так и не оценили. Даже университет в список опубликованных трудов факультета не соизволил внести мои книги. В то время как книги Хелмбарта значились в списке наряду с обычными учеными статьями типа «Символы мебели у Генри Джеймса». Я всегда подозревал, что между такими статьями и книжонками Хелмбарта гораздо больше сходства, чем допустимо для солидного автора.
Эдит сказала, что восхищается энергией людей, подобных мне, – официально не признанных, но продолжающих творить.
– Да, – вдруг сказал Северин: я не думал, что он прислушивается к нашему разговору, – я согласен. Вы знаете, ваши книги очень трудно найти. Их уже не печатают.
К сожалению, это была правда.
– Как же вы их нашли? – спросил я. Кроме моей мамы и издателя, я больше не встречал никого, кто бы прочел все мои книги. (Утч и отца я подозревал в недочитывании до конца.)
– Здешняя библиотека скупает все, – сказал Северин. – Просто надо знать, как откопать их.
И тут я представил себе свои книги как некие археологические редкости. После этих слов Северина у меня появилось ощущение, что «откапывать» мои книги – куда больший подвиг, чем их писать. Больше он мне ничего не сказал, но позже я узнал, что и книги он любит оценивать в весовых категориях. Например: «Пожалуй, этот роман тянет на 134 фунта».
Следующим утром он подъехал к нашему дому на велосипеде. Утч с детьми ушла, и я думал, что он добавит еще что-нибудь про мои книги, хотя и подозревал, что он приехал повидаться с Утч. О моих романах так и не сказал ни слова. Он привез мне кое-какие рассказы Эдит.
– Она действительно очень хочет поработать с вами, – сказал он. – С Хелмбартом ничего не вышло.
– Да, она говорила мне, – сказал я. – Я тоже рад повстречаться с писателем. После студентов и сослуживцев это большая радость.
– Эдит очень серьезно относится к работе, – сказал Северин. – Хелмбарт такое устроил ей! Заявил, что должен переспать с ней, тогда он точнее поймет недостатки ее творчества.
Мне Эдит об этом не упомянула.
– Он, наверное, принял ее за очередную факультетскую дурочку, только и ждущую, как бы переспать со своим мэтром, – сказал Северин.
Я подозревал, по каким причинам он сообщил это, и засмеялся в ответ.
– Я сразу понял, что она интересуется только литературой.
Он тоже засмеялся.
Каждый день в хорошую погоду он ездил на велосипеде с десятью скоростями. Крутил педали миля за милей в открытом борцовском трико, которое они называют тельняшкой, потел, загорал.
– Когда Хелмбарт дошел до того, что уже не мог видеть Эдит, не прихватывая ее, ей пришлось это прекратить.
Мы оба опять засмеялись.
– Мы провели с вами чудесный вечер, – сказал я. – Вы замечательно готовите.
– Что ж, я сам люблю поесть, – сказал он. – И с удовольствием поговорил с вашей женой.