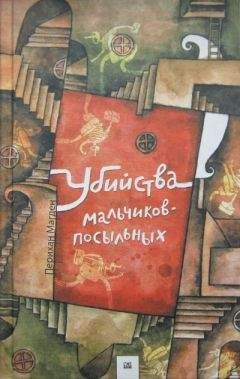Владимир Выговский - Огонь юного сердца
Не только борода и профессия изменили комиссара, но даже и акцент. Разговаривая, он стал употреблять немецкие, украинские и особенно польские слова. Никто не сомневался, что он поляк. У него даже паспорт был с настоящей немецкой пропиской и специальным полицейским «аусвейсом» , что давало ему право ходить по городу во время комендантского часа.
Ян Станиславович держался всегда весело, хотя и тяжело вздыхал и часто курил. Любил он польские и украинские песни. Когда в мастерской находился кто-нибудь из клиентов — ждал, пока ему сделают обувь, Ярский потихоньку, себе под нос, напевал:
Поведзь ми, дзевче. таке фиглярне,
Для чего тве очки сон таке чарне,
Як два диаманте крепом зацьмьоне ,
И так смейонце хоць залзевьоне...
Нередко к нам наведывались гитлеровцы и полицейские: одни — прибить каблук, пришить заплату, другие — просто посмотреть, что тут делается. Враги вели себя нагло, засматривали в наши сундучки, проверяли документы. Кое-кто из полицейских одалживал у Ярского деньги, но никогда не возвращал их: куда-то исчезал и не появлялся. Попадались и «полезные» полицейские. С ними Ян Станиславович о чем-то договаривался, они делали ему какие-то услуги, что-то приносили, доставали.
Им тоже приходилось давать оккупационные марки или наливать стакан спирта.
—При «новом порядке» все продается и покупается,— сказал мне как-то Левашов, когда вышли полицейские,— за деньги можно хоть самого Гитлера купить! Нам нужно много денег, Петенька, нужно лучше и больше работать.
Для чего нужно много денег, я не знал, а спрашивать было неудобно. «Раз нужно — значит, нужно»,— решил я и молча, как умел, помогал комиссару. Сперва я только выравнивал гвоздики, подготовлял дратву, потом начал ставить заплаты на ботинки, прибивать подметки, вшивать задники. Так день за днем под постоянным наблюдением Левашова я научился даже самостоятельно шить сапоги. Интересная и кропотливая работа, оказывается! Я быстро освоился с ней и всем сердцем полюбил ее. Приятно видеть свой труд, а еще приятнее зарабатывать самому себе на хлеб.
Постепенно я начинал забывать о том, что такое голод, бессонные ночи и беспрестанное шатание с протянутой рукой по улицам. Зарабатывали мы с Левашовым хорошо и хорошо питались. У самой нашей мастерской с раннего утра и до позднего вечера спекулянтки горланили:
Жареная картошка! Жареная картошка!
Пирожки! Теплые пирожки!
Украинский борщ! Свежий борщ!
Кому теплого молочка? Кому молочка теплого?
Навались, навались, у кого деньги завелись!..
Весь день гудело, словно в улье. Первые дни у меня от этих выкриков и постоянного шума ужасно болела голова. Я десятки раз вскакивал с места, намереваясь стукнуть молотком хоть одну толстую и горластую спекулянтку. Но комиссар всякий раз меня сдерживал, говоря:
Всем, Петя, рот не закроешь. Жизнь такая настала, ничего не поделаешь. Терпеть нужно, сынок. А нервы в кулачке держать надо...
Я не о всех,— чувствуя себя неловко, оправдывался я,— хоть бы одной, которая с пирожками, самой горластой, рот заткнуть.
Это, брат, такая тигрица,— смеялся Левашов,— что голову разобьет и во рту поцарапает. К ней рискованно подходить, у нее глотка словно голенище — проглотит такого маленького! — И он еще пуще захохотав.
Не проглотит,— отвечал я в нос,— я колючий.., зубы поломает.
Сенной базар затопил не только Сенную площадь и соседние скверы, но даже часть прилегающих улиц: Львовскую, Сретенскую, Рейтерскую и особенно Большую Подвальную и Бульварно-Кудрявскую. Когда однажды с пятиэтажного дома я посмотрел вниз, базар мне показался огромным прожорливым пауком—с туловищем и цепкими лапами, которые вытянулись по пяти улицам. Паук дышал, шевелился, передвигал лапами и весело шумел, заманивая людей, словно мух, в спекулянтскую паутину. При гитлеровцах, как никогда прежде, расцвела зараза спекуляции. Честные киевляне, спасаясь от голодной смерти, вынуждены были тащить на базар все, что было дома: одежду, ювелирные изделия, одеяла, мебель...
В скором времени моя роль подмастерья резко изменилась: вместо того чтобы ремонтировать обувь, мне пришлось только разносить ее заказчикам и брать деньги.
—Хватит тебе, Петя, сидеть в этой духоте, без воздуха,— сказал Левашов.— Мы уже разбогатели, хлеб у нас есть, одежда тоже, можно немного и побегать, а то ведь позеленел ты здесь.
Я с радостью взялся за новое дело — разносить обувь. Это не ремонтировать! Да и к тому же на улицу меня вообще тянуло. Города я не знал, и было очень интересно познакомиться с ним.
С каждым днем все больше и больше я убеждался в том, что мой названый отец живет не так, как все, и не так, как он это пытается показать. У него есть какая-то другая, совсем иная жизнь. А вот эта... словно сцена в театре. При мне он совсем не такой, как при людях,— не поет польских песен, не хвалит гитлеровцев и их «новый порядок», даже не смеется так. Когда наступает вечер, Левашов куда-то на всю ночь исчезает. Утром часто приходит утомленный, с воспаленными от бессонницы глазами. Как-то раз после ночи, проведенной где-то, он вернулся только к обеду и начал скрытно зашивать рукав серого пиджака, пробитый пулей. Пальцы и ладонь его левой руки были окрашены йодом...
—Вы ранены?! — вырвалось у меня.
Немного царапнуло. Полицейский один напился и случайно...
-Вы подпольщик! — выпалил я, надеясь, что наконец все раскроется.— Я тоже хочу быть...
-Раненым?!
-Подпольщиком.
—Ты что-то не то говоришь, Петя,— сказал Левашов усмехаясь.— Каким подпольщиком? Какое подполье? С чего это ты взял?
Насупившись, я отмалчивался, ругая себя в душе за то, что не мог ничего привести в доказательство. А комиссар продолжал:
—А почему тебе, Петенька, не пришло в голову, что я принц Уэльский? Смотри не сболтни случайно еще где-нибудь на улице. Тогда от гестаповцев горя не оберешься. Им не докажешь, подпольщик ты или не подпольщик,— сразу на виселицу.
—Что вы, я ведь не маленький...
—Маленький или не маленький, а с такими вещами надо быть осторожным.
После этого разговора я больше не осмеливался заговорить о подполье, хотя дважды замечал, что комиссар передавал клиентам пачки листовок.
Но как-то, проснувшись утром, я заметил, что Левашов быстро положил под каблук ботинка маленькую записку, написанную карандашом, и старательно прибил набойку гвоздями. Потом, когда я встал, комиссар назвал мне адрес и приказал немедленно отнести эти ботинки заказчику. По дороге я все время думал о записке. Мне очень интересно было знать, что это за записка.
«Комиссар — подпольщик! Комиссар — подпольщик!» — радостно стучало мое сердце.
Мимо меня проходили немцы и полицейские. И мне внезапно показалось, что все они на меня подозрительно смотрят. У меня по телу забегали мурашки. Стало страшно, Но сердце билось спокойно, лишь чуб один ежом нахохлился, когда я вспомнил про виселицу, на которой вешают партизан.
На Пушкинской улице я отыскал нужное серое здание и зашел в темный подъезд.
На третьем этаже на минуту остановился, привыкая к темноте, нащупал около двери квартиры звонок и изо всех сил нажал кнопку.
—Кто там? Сейчас! — прозвучал недовольный женский голос.
Щелкнула задвижка, и на пороге показалась старушка:
Тебе чего?
-Ботинки принес.
-А, ботинки... Проходи. Лексей! — позвала она, закрывая дверь.— Ботинки принесли.
Из глубины коридора вышел пожилой человек в больших роговых очках, по-старчески опираясь на суковатую палку. Я сразу узнал его — это ему как-то Левашов исподтишка запихнул за голенище пачку листовок.
—Здравствуй, сынок! — весело поздоровался он.— Ботинки? Готовы? Ну, проходи, проходи...
Мы зашли в светлую, залитую солнцем столовую. Посреди комнаты был большой обеденный стол, мягкие стулья. Слева красовался позолоченным сервизом старомодный буфет. Справа стоял диван с высокой спинкой и тремя красиво вышитыми подушечками. Стены были украшены старинными картинами и двумя большими иконами.
-Так сколько, мальчик, за ботинки? — спросил хозяин, доставая из кармана кошелек.
-Двадцать марок.
-Получай! Пять, восемь, десять, двадцать. Ну как, казак, твои дела? Пальцы больше не режешь? Щетину уже научился заплетать?
Научился. Чего там уметь?.. Я сапоги могу самостоятельно шить.
-Молодец, коли так.— Он похлопал меня по плечу,— Садись, немного посиди. Вот с котенком поиграй, вишь какой хорошенький! — Схватив с полу котенка, который как раз попал ему под руку, протянул мне.— А я сейчас посмотрю, может, еще туфли дам в ремонт, Садись...
Взяв ботинки, хозяин зашел за ширму. Я догадался: он пошел читать записку.
И в самом деле, через минуту послышалось щелканье клещей. Не выдержав, я подскочил к ширме. Сквозь щель я увидел у него в руках оторванный каблук и записку, Горько стало у меня на душе: «От меня скрывают, мне не верят...»