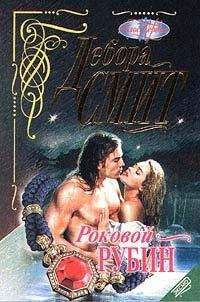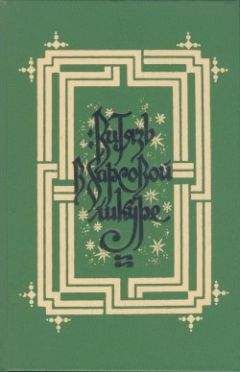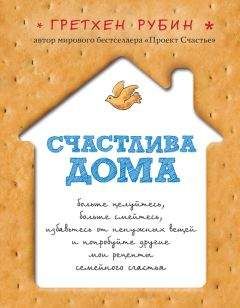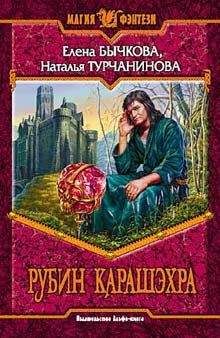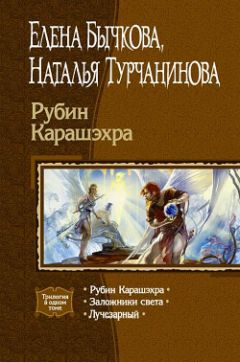Алексей Ельянов - Заботы Леонида Ефремова
— Возьмите меня, мало ли что?..
— Теперь они не посмеют... А впрочем, согласен. Когда все выясню, дам знать. Глеба надо спасать по-настоящему.
За тонкой стеной, за моей географической картой, разразился водопад: пришли соседки, две сестрички, принять душ. Сейчас они начнут хихикать, болтать, пересказывать друг другу всякие веселые истории.
— Теперь не поговоришь. Пойдем на улицу, Николай.
Он согласился неохотно. Оглядел внимательно мою комнатку, подошел к окну, потрогал, даже как будто погладил, извиняясь, зеленовато-коричневые черепки моей братины.
— Я их склею, Коля. Или, может быть, снова поеду к горшечнику, закажу еще. Побольше и получше, и для тебя. А может, и сам закажешь, какую тебе надо.
— Вы меня возьмете? — тихо спросил он.
— А почему бы и нет? У моего друга мотоцикл с коляской. Как раз три места. Сядем и поедем как-нибудь на заре.
— Куда? — спросил Николай.
— Странный вопрос. Не все ли равно куда. Куда-нибудь туда... Косточки собирать. Посмотреть, как солнце встает. Устраивает?
— Еще бы! Меня все устраивает.
Я уже больше не мог находиться в моей тесной комнате. Географическая карта манила, а стены раздражали меня. Я увлек Николая за собой, на улицу, к площадям, к Неве. И всю дорогу я вспоминал. Рассказывал о путешествиях, о какой-то совсем другой жизни, которую мне посчастливилось узнать. И самой памятной, самой уместной и даже необходимой теперь для меня и для Лобова оказалась история про знаменитого горшечника из Ярославской деревни Песчинка.
Я рассказывал не спеша, с подробностями, чтобы Николай оказался в дороге вместе со мной, заодно чтобы он понял, каким я отправляюсь в путешествия и ради чего, как пробираюсь, продираюсь в пути не просто к новым людям и случайным обстоятельствам, а прежде всего к самому себе: то подобно реставратору снимаю слой за слоем — ненужный, наносный, фальшивый; то, словно бы глину перед созданием горшка, что-то обхлопываю, обминаю в себе, с предчувствием, с ожиданием обновления. И радостно мне и тревожно в такие минуты.
Когда мы подошли к Неве, облокотились на гранитный парапет, Николай спросил меня с тревогой:
— Неужели вы и вправду, Леонид Михайлович, хотите бросить училище?
— Не знаю еще, боюсь я, Коля.
Боюсь воды — она текуча.
Земная кровь — она во мне,
а я не чайка на волне,
я раб волны, я камень с кручи.
Боюсь огня — его касанье
не только кожу жжет мою.
Я вижу в нем беду свою,
не дров — души моей сгоранье.
Боюсь предчувствий. Что-то есть
в том тайном голосе щемящем,
в том ожидании щенячьем,
кому, откуда эта весть?
Боюсь остаться без друзей,
когда я журавлем подбитым,
теряя летний дух и ритм,
срываюсь с высоты своей.
Боюсь предательства и злобы,
они смертельнее штыка.
Нас душит потная рука
приемом медленным, особым.
Боюсь беды, боюсь неволи,
руки безжалостной боюсь.
Я облако, я ветер в поле,
в свое неведомое мчусь.
Но, кажется, всего страшней
безверье, душезапустенье,
когда идешь ты горькой тенью
в мир озабоченных людей.
Когда ты ни в цветке, ни в птице,
ни в камне твердом, ни в огне.
Ни подавиться, ни напиться
тобой нельзя, ты как на дне.
Так пусть же, пусть на белом свете,
пока он бел и долголетен,
я в смертных страхах растворюсь, —
при жизни смерти я боюсь.
Глава пятая
Восторженный человек Николай. Никак ему было не уйти спокойно, — все оборачивался и подпрыгивал, подпрыгивал, чтобы я видел его издалека, и все махал мне, махал обеими руками, и даже на большом расстоянии я видел, догадывался — он улыбался. Нам еще о многом надо подумать и потолковать. Мы поколесим и вернемся на круги своя. А пока еще нужно повертеться на моем гончарном круге, пообмять глину, прокалиться в печи, а потом уж, потом, когда я буду в мастерстве своем уверен, как уверена птица, когда она вьет гнездо, вот тогда уж... не торопись, не спеши никуда и ни в чем, время и так убегает вспять быстрее мотоцикла. Пока тебе хорошо, не спеши. Ты снова, Ленька, кажется, вернулся в тот субботний день, в тот час, когда ты был во всем и все было в тебе.
Вернулся домой и долго не мог заснуть. Потому было не сомкнуть глаз, что опять во мне работали, крутились жернова, и, как бабочку в сачок, хотелось поймать догадку, разгадку, которая заставила бы меня поступить как должно.
Я знал, что на кухне, прислонив к стеночке костыли, как всегда, сидит возле окошка мой Кузьма Георгиевич, покуривает, тяжело дышит и смотрит в окно, и взгляд его, наверно, обращен не в будущее, а в прошлое... он вспоминает жизнь, как будто бы перелистывает старые альбомы.
Я помню эти большие альбомы, он показывал и рассказывал мне о них. А как он обрадовался однажды, когда позвонил ему ночью ученик и прокричал в трубку, что сын родился только что и назовут его Кузьмой. И тогда Кузьма Георгиевич уже больше не мог сидеть на кухне. Осторожно, чтобы не разбудить жену, прокрался в комнату, достал из шкафа старые свои альбомы, начал их листать — от поздних фотографий к началу жизни, к юности, к детству.
Альбомы были тяжелые, и Кузьма Георгиевич испытал странное чувство: ощущение жизни на вес. Одни альбомы потянули столько... а другие вот сколько... А вот если взвесить... Абсурдным показался ему тогда ход мысли, и все-таки, раскладывая альбомы на столе, он продолжал думать: «А что, собственно, нужно взвешивать? Дороги, которые я исходил с теодолитом? Ордена и медали? Или, может, деньги, которые я заработал?.. Нет, не то. Вот если бы можно было взвесить самые трудные и самые легкие годы и сравнить, тогда бы еще кое-что получилось в ответе...»
И, перелистывая страницу за страницей, возвращаясь к юности, к фотокарточке голенького карапуза, Кузьма Георгиевич все искал в себе то, что могло бы оказаться самым весомым в жизни. В голову лезло всякое: и прожитые годы, и знания, переданные в наследство следующему поколению, и многое еще, о чем часто говорят, чем утешаются старики, но в тот раз все показалось обычным, банальным, затертым, как старые документы. За грудной клеткой, где-то в области сердца, что-то томилось, ждало, грустило и радовалось при каждом новом памятном фотоснимке: вот с друзьями на рыбалке, а вот загорелый бородач стоит над скалами, а вот с женой на палубе белого парохода, а вот в шапке и фуфайке молодой мужчина в сосновом лесу, с автоматом на груди, рядом два друга, два партизана... все трое улыбаются, и душа нараспашку, как у новорожденных. Еще никто не знал, что через двадцать минут бой, и не станет двоих друзей, и ударят осколки по ногам Кузьмы Георгиевича, а взрывная волна зашвырнет его в какую-то яму, и надолго придет беспамятство.
И Кузьма Георгиевич подумал: «Что я делал бы без моей памяти? Только в ней теперь вся прошедшая моя жизнь. Вот что самое главное — память. И та, что в голове, и та, что в сердце, — память сердца...» И наконец-то пришло самое точное ощущение того, что же надо было бы взвесить на весах времени и пространства, на людском ли, на собственном ли суде своей совести. И это чувство умещалось в одно слово, самое стародавнее, показавшееся теперь самым своевременным и современным, хоть и означало оно что-то необъяснимое, но остро ощутимое. Кузьма Георгиевич даже прошептал: «Душа. Я прожил с душой мою жизнь. Она страдала и радовалась... все в нее вместимо... Вот если бы Володька не позвонил мне сегодня насчет сына, умерла бы какая-то часть моей души...»
А сегодня я подумал, что часть моей души умерла бы, не встреться я с Никитой Славиным, а потом с Лобовым. А как умирала моя душа после встречи с Глебом под мостом...
Полежав еще немного без сна, я натянул тренировочные брюки, тапочки и вышел на кухню. Кузьма Георгиевич и в самом деле сидел у окна и курил. Коротенькая трубочка была зажата в руке так, чтобы в любой момент можно было спрятать ее от жены. Курить ему категорически запрещали врачи.
В кухне, как и во всей квартире, было очень тихо — все уже спали, только из крана медленно капала вода да в трубах парового отопления или водопровода что-то иногда урчало и постукивало.
— Что тебе, опять не спится? — спросил Кузьма Георгиевич.
— Не знаю, — ответил я, закуривая. Мы помолчали, потом я сказал: — Вот думаю, может быть, бросить педагогику, может, самому пойти еще поучиться.
Кузьма Георгиевич попыхтел своей трубочкой.
— Что так? — спросил он. — С ребятами не управиться? С тем парнем, который ударил?
— Да нет, — ответил я, — это уже позади. Он помог мне взглянуть на себя со стороны, понять кое-что. В общем, не судьба...
— Тебе, конечно, виднее, — сказал Кузьма Георгиевич, — только ты еще подумай. Судьбу свою нелегко разглядеть. Да и куда нам всем бежать от своего дела?