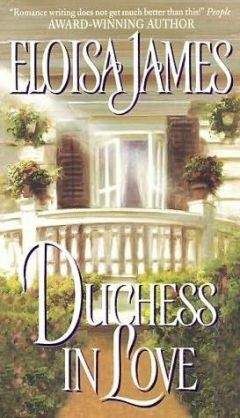Неизвестно - Сергеев Виктор. Луна за облаком
В жизни Ленчика Чепезубова все спуталось. Куда пойдешь? Кому и что скажешь? То, что есть нынче, то, что будет завтра, —все это пустота, сутолочь бессмысленная. Лежи —вылеживай на нарах, пока лицо не начнет желтеть. Ничего нет за душой. Впереди — мрак, темень... А позади остались несколько страшных и тяжелых для него минут. И то, что вынес он своим еще не окрепшим духом из этого испытания,— все это вошло, влилось в него и осталось с ним: и седые еолосы, и морщины, и затаившийся страх в зрачках, и обида на кодлу, и упрямые складки в уголках рта:«А если все же ослушаюсь?»
В колонии зрело глухое недовольство блатными. Бессловесные, тихие, жалкие трагедии ручейками стекались отовсюду, со всех бараков, в одно русло... У кого сапоги заменили опорками, у кого пере дачу отобрали, у кого деньги увели... «Не работают сволочи, а живут припеваючи»... «Мы на воле так не поживем, как они тут»... «А не дашь—нож суют, накалывают»...
Зэкам табачные выдавали. Ну, что за деньги! Мелочь. И то—раз в месяц. Так блатные на выходе от касс встали и каждого обобрали. Полторы тысячи народу прошло и полторы тысячи раз повторялось:
— Эй, земляк! Плати Шурику на карцер!
Один буркнул: «Знаем мы этих Шуриков!» С бритвой к нему подскочили, едва ноги унес.
А получилось так. Табачные платили в трех кассах, тремя потоками. По спискам бригадным, без сдачи. Быстро. Расписывайся и уходи. И запускали в три двери, а выход один—на кухонный двор, а там стена канцелярии, забор с вышкой сторожевой и Шурики эти самые...
Только к вечеру колония узнала, что она ограблена. Ограблена нахально, с вызовом.
Утром Костька-нарядчик собрал бригадиров и заявил:
— Терпеть блатных уже нет никакой возможности. Последнее из последних уводят от трудяги и без того небогатого ни деньгами, ни сахаром, ни табаком, ни пайкой, ни баландой. Что же мы, братцы? Люди мы или падлы? Давай поднимайтеся всем гамузом, Еыбье.м блатных из зоны и обратно ни за что не пустим!
В успех задуманного Костькой-нарядчиком зэковские бригадиры поверили. Уж очень трудяги озлились на блэтных. И верно: терпеть нет никакой возможности. Скоро до кровной пайки доберутся. Тогда ложись и помирай. И еще поверили потому, что Костька сам из уголовников, знаменитый был когда-то. Уж если он бал якает, что поднимайтеся, выбьем из зоны... тогда надо решаться.
В воскресенье Ленчик валялся от нечего делать на нарах в бараке. Думал о словах дяди Вити: «Затоскуй, загорюй—курица обидит». Поглядел в окно. По лежалому волглому снегу важно вышагивали грачи. «Весна... Грач зиму расклевал».Угол завешен одеялом. Там кто-то сопел, ворочался... За дощатым столом играли в карты, доносились выкрики:
— Соника!
— Атандэ!
Пол заплеван, кругом грязь, окурки, вонь... «За собой убрать и то не хотят».
— Тасуй как следует!
Будто бы шум пробивался сквозь стену. Какой может быть шум в колонии? Самолет пролетел? Или радио? Нет, не похоже. Накатывался глухой зыбучий рокот, посверливало в ушах: «У-у-зу-зу!» Хлопнула дверь, на пороге человек — из разинутого рта слова жуткие, от которых тело стало ватным:
— Уркаганы! За ножи! Вся зона поднялась!..
И убежал, сгинул в сторону ворот. А в распахнутые двери уже рвался рев толпы:
— Бей их!
— Дави! Круши!
— Так-растак. . Вон из зоны! Ворье! Сволочь'.
Блатные поволокли стол, чтобы припереть двери. Да разве
(удержишь?.. Затрещало все, штукатурка посыпалась с потолка. Белые круглые лица с открытыми ревущими ртами плясали в проломах. Ленчик сорвал одеяло, мотанул на голову и — в окно. Сквозь стекольный дождь протискался кое-как между перекрытиями, выва-
! лился на снег. К нему подбежали, начали пинать, топтать... «Все, конец»,— ворохнулось в сознании.
Со сторожевых вышек захлопали выстрелы, будто кто кнутом заиграл. И тут Ленчик сообразил, что его уже не бьют, что он один тут... Приподнялся. По дороге, сломя голову, неслись блатные к воротам, под защиту охраны. Ворота уже распахнуты и там, за преде- V лами зоны, видна цепочка солдат.
— Живой?
Ленчик перевернулся на спину. Дядя Витя, тяжело дыша, стоял перед ним, держа ножку не то от табуретки, не то от скамейки.
— Ну, что? В зоне останешься или уйдешь?
Ленчик с трудом сел и, морщась от боли, долго кашлял и плевался кровяными сгустками в снег. Отдышавшись, посмотрел затуманенными глазами на дядю Витю:
— Остаюсь в зоне. Какой вопрос...
Глава двадцать пятая
Перед самыми боевыми действиями с японцами пришлось Трубину впервые прыгать с парашютом в Амур. Инструктор сказал ему, что при падении считай до четырех, а потом уже дергай за кольцо. Трубин подумал-подумал и решил пересилить свой страх, считать до десяти, а затем уж кольцо... Помнится, что за поручни ухватился, закрыл глаза. «Пошел!»—закричал инструктор.
Трубин разжал пальцы, ухнул вниз, на тугие струи холодного воздуха. «Раз... два... три... четыре». А дальше без пауз, как из пулемета, через одно число: «Шесть, восемь, десять»,.. И рванул кольцо. Парашют раскрылся. Все нормально. Вот уж и вода близко. Пора отстегивать лямки. Одну отстегнул, а вторую трогать побоялся: вро-де еще высоко... На руках повиси-ка, вдруг сил не хватит—оборвешься... А вода совсем близко. Растерялся Трубин, забыл про вторую лямку, хочет повиснуть на стропах, а пристегнутая к лямке нога не дает. И саму лямку отстегнуть не может. Все натянулось, тело перекосило.
Лямку он отстегнул уже в воде. Нырнул и отплыл подальше, чтобы не запутаться в стропах и не утонуть.
Инструктор за прыжок похвалил: «Молодец, затяжным прыгал и от системы парашюта освободился до приводнения». Откуда ему было знать, что Трубин забыл про вторую лямку, и в воде ему просто повезло?
От той похвалы инструктора долго оставалось у Трубина чувство вины и неудобства. Не раз порывался сказать инструктору, что «полного освобождения от системы парашюта не было», но все откладывал: случай вроде бы мелкий, не ахти какой. Подумаешь, лямка! Отцепил же он ее все-таки, хотя и в воде.
...Нечто подобное испытывал он теперь. Это было тоже чувство вины и неудобства. Он знал — перед кем. Перед Чимитой.
Все, что она сделала для него, не шло ни в какое сравнение с тем, что он сделал для нее. О-о, ему еще немало предстоит всяких там «отстегиваний лямок»! И надо уметь «отстегивать».
С некоторым удивлением стал замечать Трубин, что он все больше думает о Чимите и что она ему становится все дороже. Вот она уехала на растворный узел и ее долго нет, и он вдруг почувствовал пустоту вокруг. С растворного узла подъезжали самосвалы с холодным бетоном... Там, где бетонировали фундамент, слышались возбужденные крики. Кто-то ругался. А. Трубин все смотрел на дорогу, не покажется ли Чимита.
— Григорий Алексеич, бетон замерз!
Это прибежал Колька Вылков. Шапка зажата в кулаке, по лбу катился пот.
— Не выдумывай.
— А я и не выдумываю. Кузов самосвала вот так подняли, торчком, а бетон оттуда и не вываливается.
— Сбивайте лопатами, ломами — чем угодно... И сразу — в фундамент. Уплотняйте вибраторами.
Но можно ли укладывать в конструкции такой бетон? Ведь он однажды уже утрачивал свои свойства... Будет ли он прочным и долговечным? Чимита доказала, что будет.
На растворном узле она приготовила партию бетона с поташом— противоморозной добавкой. Из этой партии изготовили несколько опытных образцов. Для части образцов схватывание массы проводили тотчас же после приготовления бетона, а для остальных — после потери и восстановления пластичности. Любопытно, что бетон, потерявший и снова восстановивший пластичность, набирал прочность активнее, чем уложенный в формы сразу же после выхода из бетономешалки.
Чем это вызвано? Чимита считает, что когда бетон вибрирует, то с поверхности как бы сдирается довольно прочное минералогическое напластование, и новые дозы воды, соприкасаясь непосредственно с цементом, ускоряют набор прочности. Цемент более полно взаимодействует с водой. Это так и есть.
Но почему ее нет? Что задержало Чимиту? Без нее как-то пусто всюду. Вот Вылков прибежал встревоженный. Бетон утратил пластичность... Случись такое раньше, разве бы Трубин остался тут, на дороге? А теперь ноги присохли, идти никуда не хочется. «A-а, без меня управятся! Пора уж научиться».
От одной мысли, что Чимита скоро уедет со стройки — а она уедет, она же упряма—холодело в груди. Вспомнилось, как познакомился когда-то с ней. Задиристая, как мальчишка... Тогда ему было только смешно, хотелось подразнить, вывести ее из себя. Просто так. Неизвестно зачем. Но и сейчас от тех далеких дней что-то шло и. шло от Чимиты к нему, меняя ее как-то, и все то, что шло к ней, касалось и его, и от этого сама Чимита казалась совсем-совсем не такой, как когда-то. Закрыв глаза, он видел ее перед собой, как живую, с короткой мальчишеской прической, властным взглядом черных повлажневших глаз. И Григорию так захотелось обнять ее в эту минуту, что он шагнул... будто к ней шагнул и глухо произнес ее имя. Через мгновение он пришел в себя и замер, боясь повернуться. «А вдруг меня видели. Нельзя, чтобы видели...»