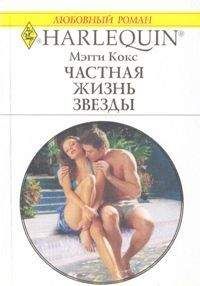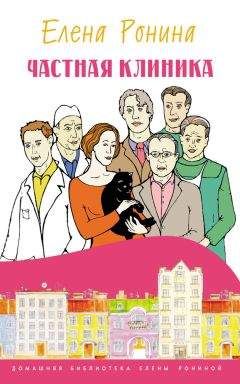Эдуар Род - Частная жизнь парламентского деятеля
Бланка слушала его удивленно. Из уст ея излетело лишь короткое “о!”.
— Да,— продолжал он,— я не говорил вам об этом никогда, но часто думал… Все таки у нас было средство в руках — развод.
Она сделала жест, как будто хотела закрыть ему рот рукой:
— Не говорите этого, Мишель! не говорите таких вещей, прошу вас!.. Зачем вы это говорите? Вы ведь отлично знаете, что все это одне слова, что это невозможно!..
— Невозможно, это верно, вы говорите правду… Но я долго думал и под конец мне стало казаться это не столь уже невозможным… Эта идея меня преследовала… Наконец я захотел победить ее…
— И хорошо сделали! Дорогой, не забывайте того, что вы сами так часто говорили мне: мы господа своих чувств, но не действий; и мы имеем право… верно-ли это? я не знаю… мы имеем право любить друг друга, так как этим мы никого не заставляем страдать…
— Да, это верно, я это говорил, я думал это и до сих пор еще думаю, но у меня нет более сил; я вас слишком люблю!..
— Никогда не ;”;слишком”!..— возразила она, прижимаясь к нему.
— Да, да, я должен быть мужественным… но я ненавижу, я презираю самого себя за то, что не мог с собою справиться! Я возмутил ваше спокойствие, я украл у вас счастье, которое судьба послала-бы вам на долю…
— Не говорите этого, ведь я счастлива!
И желая утешить любимаго человека, который видимо страдал, она почти материнским движением ласкала его волосы. Так замерли они, почти счастливые, все забыв,— самих себя, разделявшия их препятствия, все — что жизнь и долг клали между ними, что мешало слиться им, медленно сближавшимся, устам; они все забыли, ничего не видели, поглощенные всецело своей страстью, наклонившись над жарко дышущей бездной, кружившей им головы,— когда дверь комнаты безшумно отворилась; и они не видели, как вошла Сусанна, остановилась на пороге, сделала шат вперед, прижимая руку к сердцу, бледная как полотно, готовая вскрикнуть… Но она не вскрикнула, не выдала своего присутствия ни малейшим шумом, и так-же быстро удалилась как и вошла.
Еще несколько времени они оставались очарованные, глядя в глаза друг другу, обмениваясь лишь отдельными безсвязными словами.
Наконец они как-будто устали от этой напряженной борьбы с неудовлетворенной страстью, переменили позы и когда Сусанна вновь вошла, и как ни в чем не бывало присоединилась к их беседе, в них уже ничего не было, кроме обычной приветливости! Когда пробило десять часов, слуга явился доложить, что карета m-lle Эстев ждет ее.
Бланка встала, пожала руку Мишелю и обняла Сусанну, которая побледнела и закрыла глаза…
Но ни слова, не жеста, ничего не вырвалось у них, чтобы обнаружило разыгравшуюся между этими тремя людьми драму.
Однако, когда Бланка удалилась, Мишель заметил, что жена его бледна, утомлена и едва держится на ногах:
— Что с тобою? — спросил он с участием.
Она отвечала самым естественным голосом:
— Я чувствую себя не очень хорошо сегодня…
— Не очень хорошо? — переспросил муж с тревогой.
— О, это пустяки, не безпокойся… я немного устала… пришлось сделать столько покупок, бегать по магазинам… За ночь все как рукой снимет. Покойной ночи!..
Она подставила ему свой лоб. Он прижал к нему горевшия губы.
— Ты тоже пойдешь спать?— спросила она.
— Нет, еще слишком рано. Мне надо еще кое-что сделать… Я буду работать в кабинете…
Он взял лампу и первый вышел.
Она повторила то, что говорила ему каждый вечер:
— Не утомляй себя слишком!
Он на пороге обернулся и ответил тоже заученной фразой:
— Не бойся… Ты знаешь, как я разсудителен!..
Когда-же дверь за ним захлопнулась, Сусанна без сил упала в кресло, дав волю душившим рыданиям. Она не могла сомневаться в том, что видела собственными глазами. Но как все, кого настигнет несчастие внезапно, она еще все не могла сообразить всей его глубины. Она мысленно повторяла:— Все кончено! — не проникая в значение этих трагических слов. Она спрашивала себя: что делат теперь? не угадывая еще всей безнадежности этого вопроса. И тихо проходили глухие ночные часы в этих смутных терзаниях.
Мишель не работал. Сев к своему столу, он отпихнул груды наваленных на нем бумаг, и вынув из кармана письмо Бланки, принялся его читать и перечитывать. Прежде чем сжечь его, как всегда делал, он выписал, чтобы присоединить к некоторым своим интимным бумагам, следующее место из письма, заставившее его предаться самим сладким мечтам.
“… Я еще не говорила вам, что последнее время меня преследует какой-то странный бред. Я много думала о нашей любви, безъисходной, преступной, ужасной и мне становилось так грустно, я теряла всякую надежду. Я ничего не видела в будущем и мне казалось, что моя голова разорвется от скорби и усталости. Но внезапно, представив себе чем я могу и чем должна быть для вас, я испытываю глубокое, сладкое успокоение… Мне становится ясным, что между нами существует нерасторжимая исключительная связ, род братства в любви. Я для вас более чем сестра, потому что между нами тайна; более чем друг, потому что я энаю, как вы меня любите; более чем жена — мы так редко бываем вместе одни, что я не могу вас утомить, наскучить вам; более чем любовница, так как в нашей любви нет ничего темнаго. Если бы нам пришлось разстаться, мы вспоминали бы друг о друге без горечи и угрызений. Эти мысли делают меня совершенно счастливой и я спокойно засыпаю, а этого я уже давно не знаю…”
Мишель долго мечтал, над этими строками письма, наполнявшими его зараз безконечной радостью от сознания, что он так любим, и вместе безнадежностью, так как он понимал, что надо почти не человеческия усилия, чтобы воспрепятствовать этой великой любви перейти пределы дозволеннаго. И он так же, как и та, которая еще рыдала в маленькой заброшенной гостиной, спрашивал себя: “Что делать?” И если он не ощущал, как она, смертельной раны, опустошающей сердце, то все же с мучительной тоской измерял бездну, разверзшуюся перед ним и то безконечное пространство, которое отделило его на всегда от счастья. Между тем Бланка, пройдя через роскошный вестибюль равнодушнаго дома матери, где ея сердце никогда не находило отклика, заперлась в своей спальне, так же с тою целью, чтобы прочитать письмо Мишеля:
;”;…О, если бы вы знали,— писал он,— как я вас благословляю, как я благодарен вам!.. Если бы вы знали, какой благородной и великодушной я вас нахожу, как я обожаю вас за эту любовь, которая ни на что не разсчитывает, которая вся — самопожертвование!.. До сих пор жизнь моя была слишком увлечена внешними интересами, чувства не играли в ней большой роли, вы первая озарили передо мною тайны сердца. Я понял теперь многое, смысл чего прежде ускользал от меня, я понял такия вещи, которыя прежде были для меня закрыты. Да, я понял, я чувствую, что для нас настала новая жизнь, которая принадлежит только нам двоим. Я понимаю, чувствую все, что есть глубокаго, скорбнаго, жестокаго, божественнаго и сладкаго в тайне, которая нас соединяет. Вместе, ведя друг друга, мы вступили в мир, двери котораго были так долго закрыты. И наша любовь может дать нам немного радости, только если она будет выше любви. Она преступна, я это знаю, потому что осуждена на притворство и ложь. И тем не менее мне кажется, что мы можем смыть с нея пятно позора, что она может облагородить нас. Милая, или это иллюзия? Если это так, то разве простительно такому человеку как я, который должен знать жизнь, допустить такую грубую ошибку? Но что делать? Я не могу не улыбаться, думая о суде, который произнесут над нами, если все откроется. Да, я смеюсь, так я равнодушен во всему, что не вы. И я забываюсь, поглощенный счастием любить вас, и я с радостью пожертвовал бы для вас всем, еслибы в этом “все” не было трех существ, которых я должен защитить и спасти от себя самого. И это сознание безсилия, что вот счастье само дается в руки, а взят его нельзя, что долг, суровый долг препятствует этому, наполняет мое сердце безконечной грустью, и эта грусть, эта скорбь является для меня лучшим доказательством того, что наша любовь сама в себе носит извинение, так как она полна самопожертвования…”
Бланка читала и перечитывала; и, между тем как слезы ея падали на этот листок бумаги, она спрашивала себя, почему судьба предопределила ей любить этого человека, которому она никогда не будет принадлежать? почему она должна состареться, не зная радостей свободной и правой в глазах общества любви, той радости, которую ведают все невесты, все жены, все матери?…
II.
На другой день, Монде, поднявшись довольно рано, обошел дом, любопытствуя изучить расположение комнат, обстановку, немного вычурную мебель, картины смешаннаго достоинства, как будто желая открыть в убранстве покоев своего друга тайну его существования: ибо чем больше он размышлял, тем глубже убеждался в том, что уже и накануне смутно почувствовал, что в Мишеле явилось что-то фальшивое, надтреснутое, что он колеблется, сомневается, что как будто его приезд был ему неприятен, мешал ему. Или это его успехи в качестве главы политической партии сделали то, что в отношениях к людям и даже к ближайшему из друзей он ужь холоден, неискренен, держит всех на отдалении? Или быть может тут скрывается что либо другое, неприятность, денежныя затруднения, отношения в женщине, одна из тех тайн, которыя так часто скрываются в сердцевине семейных союзов и дают о себе знать сквозь благодушную внешность благополучия и порядочности острым холодом и неуловимой фальшью, слышными однако для тонких нервов близкаго человека?.. Переворачивая эти вопросы, и не в силах будучи разрешить их, Монде сидел перед столом в столовой; это был длинный, безконечный стол, который казалось постоянно ждал гостей. Лакей в переднике немедленно приблизился, осведомляясь, чего ему угодно спросить: чаю, кофе или шоколаду. Монде нахмурясь проворчал: