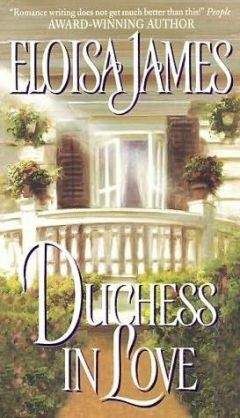Неизвестно - Сергеев Виктор. Луна за облаком
Бабий косился на Ленчика:
— Голова как?
— Что голова? Нормально.
— Ну-ну. Заруби на носу — во всем слушаться старшего. Святой закон верхолазов.
Шлепался раствор на кирпич. Мастерок — чирк-чирк! Еще долго-долго шлепался... И долго-долго мастерок чиркал... Труба кренилась, вздрагивала всем своим каменным нутром.
Ровно в четыре Чепезубов, напевая мотивчик «У каждой работы имеется срок», подошел к лебедке и включил сирену. Бабий старался перекричать ее. Ленчик разводил руками: ничего не с 1ышу. Гот показывал сверху палец. Это означало: надо уложить еще кубик, а пото м — по домам. Но Ленчику не до кубика. Раздражение к Бабию не проходило с самого обеда. «Пожалел полтинник... Нужно мне тут выламываться на него»,— думал Ленчик и хотя сознавал, что «выламывается» не на него, все же распалял себя. «Тоже мне, воспитатели!»—бурчал он, думая уже не о Бабии, а о Трубине.
Умолкла сирена и теперь можно разобрать Бабия:
— Слышь, Ленчик! Пока тепло, надо жать. Потом хуже будет.
Ленчик знал, что «потом хуже». Наступят холода и на трубе без «тепляка» не усидишь. Пока тепло, надо жать. Но раздражение набухло уже горячей волной в груди. Оно подхватывает и несет Ленчика подальше от трубы, от лебедки, от Бабия.
Нарушен святой закон верхолазов. Чепезубов ослушался старшего. Такого еще не бывало.
Бабий догнал Чепезубова, схватил его за шиворот.
— Пойдем на трубу!
— Но-но. Ты рукам воли не давай,— заговорил возбуждекно Чепезубов.— А то ответишь!
— Я и не даю воли.
Ну, что было делать Ленчику? Пришлось возвращаться по-хорошему. Кому приятно, когда при всем честном народе поволокут тебя за воротник.
Они поработали с час, уложили кубик кирпича. Бабий вытащил папиросу, закурил. Ветерок остужал горячее тело. Он задумался и забыл о Чепезубове. А тот заканчивал окольцовку трубы — стягивал металлический обруч. И его подвела торопливость. У него выпал из рук ключ, он потерял равновесие и полетел с монтажной площадки.
— А-а-а!—раздался его крик.
Бабий обернулся и увидел, что Чепезубов раскачивается на предохранительном тросике.
— Бабий!— кричал Ленчик.— Сходи за лестницей, сними меня! Скорее!
— Ты попробуй подтянуться,— советовал ему Бабий.
— Сил не хватит. Давай лестницу скорее!
— Где я тебе достану лестницу? Вот морока.
«Как же помочь ему?—размышлял Бабий.— Пожалуй, я вытяну его на площадку».
— Эй, Чепезубов! Не ори. Я протяну тебе свой трос, ты обмотай его вокруг руки и я тебя вытяну. Понял?
Бабий отстегнул пояс с предохранительным тросом, уперся ногой в доску и спустил трос.
— Ты подтягивайся на своем тросе,— кричал ему Георгий Николаевич.— А я тебя поддержу. Давай, давай! Смелее! Ну вот...
Ленчик уже дотянулся рукой до лесов. Еще усилие... Он взялся за доску, потянул на себя... Бабий, видя, что Ленчик на лесах, выпустил пояс с тросом. Оба услышали, как доска заскрипела и поползла...
Ленчик видел, как Бабий отдернул ногу с доски, поскользнулся и упал с монтажной площадки, размахивая руками... Большое и грузное тело промелькнуло мимо Чепезубова. Ленчик посмотрел вниз. Бабий лежал на земле.
— Бабий!— крикнул он.— Георгий Николаич!
Тот не отвечал и не шевелился.
Ленчику стало страшно и у него потекли слезы.
Ленчик Чепезубов и Колька Вылков пришли проститься с бригадой.
— Видите — телеграмма. Уезжаю,— проговорил Колька.
— А что такое?— спросил Гончиков.— Кураж7
— Мама заболела. Мамочка. Едем к ней в деревню. На природу. Я уже и расчет взял.
На его красном лице — сонные глаза, улыбка растягивала губы.
— А чего ж ты радуешься? Заболела мать, а он радуется.
— Но-но!— неопределенно обронил Колька, не то угрожая, не то оправдываясь.
— Они же совсем чумовые!—удивленно произнес Федька Сурай.
— Но-но!— Колька помахал ему пальцем.
— Мы не из таких,— сказал Ленчик.— Мы не из разнорабочих.
— На разных работах не желаешь? Кишка тонка?—спросил его Мих.
— Да ты, что? Я, каменщик, верхолаз, должен где-то дырки долбить да конопатить?
— Из-за тебя, дурака, Георгий Николаич чуть жизни не лишился.
— Ну уж нет. Это он по своей дурости полетел.
— Он же из-за тебя старался.
— Ну уж нет. Он по своей жадности за лишний кубик старался. А мне своя жизнь дороже. Попробуйте найти на мое место дурака.
— На твое? А Федьку поставим.— спокойно ответил Мих.
— Ха. Федьку! Толкай телегу в мешок. .
— Шел бы в маляры,— сказал Федька.
— В маляры! Вот у Кольки хавиру белил, ничего не получается. Одни поповские знаки получаются. Пришлось звать дядю Васю.
— Какие еще знаки?
— Да крестики... вот такие...
Ленчик и Колька рассмеялись и повернули прочь.
В парке тихо, только листья шуршали. Шуршали, когда Колька уходил в магазин купить закуски. Шуршали, когда Ленчик греб под себя листья, чтобы удобнее сидеть.
Тополя качали оголенными прутьями. Высокие и трусливые тополя. Испугались холодов. У забора топорщились кусты сирени сплошь в зеленых листьях. Колька удивленно переводил взгляд с тополей на сирень: «Вот тебе раз!»
— Ты чего?— спросил Ленчик.— Наливай.
«Сказать ему про тополя?»—подумал Колька.
— Да не тяни. Давай! Со мной ты не пропадешь, Колька.
— А куда мы теперь?
— Мир посмотрим. Купим билеты до какой-нибудь станции. Из города надо с билетами... А там уж не обязательно платить за проезд.
— Ну, а дальше?
— Устроимся где-нибудь. Свет на Трубине сошелся, что ли?
— А что тебе Трубин?
— Ну как, что! Воспитывает... и всякое такое. У него не заработаешь. Федька тоже уйдет. Прижал он его. Не дает жизни.
— Федька тянет все, что под руку ему попадет. Ворюга он.
— А ты о блатной жизни что-нибудь знаешь?
— Да так, мало.
— Люблю блатную жизнь, но воровать — ни-ни!
— Неужели? А мне говорили, что ты...
— Что говорили? Что я обокрал пахана в поезде? Это подсунули мне, спящему. Так надо было.
— Зачем?
— А чтобы привязать к себе. Чтобы не ушел от них.
Колька перестал наливать в стакан, настороженно смотрел на Ленчика.
— Ты не к ним ли собрался?
— А что? Или заскребло?
Глаза у Ленчика мутные. И в них уже не отражались оголенные прутья тополей, хотя ими полно небо над его головой и они заслоняли весь забор перед ним.
— Ты шубутной, а блатные таких не уважают.
— Почему же?
— Так. Лишний шум от вас.
И снова зашелестели на аллее листья. Это Ленчик пошел в магазин. Вернулся веселый, возбужденный.
— Флорочку встретил! Договорился с ней. К себе позвала.
— Нужна она тебе,— лениво протянул Колька.
— Много ты понимаешь! Тебя бы такая охмуряла, охмуряла...
Небо, как карусель, поворачивалось над головой Кольки. Скрипели голые ветки, терлись одна о другую. Он взял Чепезубова под руку и повел его туда, где небо не будет испятнано, искромсано этими ветками.
Колька не помнил, как они вышли из парка. Не помнил, ехали они на трамвае или шли пешком. Все выключилось из головы. Были ветки, закрывавшие небо, а после них легла черная немая пустота — без слов, без чувств, без видений.
И вдруг в глаза ударил свет фонарей, а в ушах загудела, заворочалась улица. Колька огляделся. Рядом стоял Чепезубов.
— Вот мы и дома,— сказал Ленчик.
У стены качался зыбкий и тусклый свет. За стеклами окон двигались тени, хлопнула форточка.
В комнате за столом сидел Мих и читал. Сурай лежал на койке, дремал. Пока в дверь протискивались, мешая друг другу, Ленчик и Колька, Сурай отвернулся к стене: сплю и знать ничего не знаю.
Вылков и Чепезубов присели к столу, бессмысленно смотрели то на Миха, то на Сурая.
— Он...— Ленчик ткнул пальцем на Кольку.— Он у нас ночует, а то поздно и далеко ему.
Мих кивнул, не отрываясь от книги.
— Вот праведник выискался,— сказал Колька.— Товарищи гуляют, а он науку гложет, с начальничками рекорды готовит. Ему с рекорда премиальные, а нам, работягам, вкалывай лишнее после того... Вот ненавижу!
Гончиков снял очки, недоуменно поглядел на Кольку. Без очков он щурился и был похож на человека, попавшего в незнакомую ему обстановку.
— Я такой же работяга, как и ты.
— Ученый ты... очкарик. И глаза через это самое попортил. Вот скажи, ученый, сколько один да один? Не знаешь? Молчишь. Один да один? Одна бутылка да еще бутылка. Сколько? Думаешь, две? Не-ет, шалишь! Одна бутылка да еще бутылка? Двадцать четыре копейки. Вот так вот!
Ленчик захохотал.
— Этот счет мы практикой осваивали, а не по книжечкам,— добавил Колька.— А ты еще говоришь...
— Ладно, давай спать,— сказал Ленчик.— Я спать хочу.
Вылков безразлично посмотрел на него.
Пока Колька не делал ничего плохого, но и Гончиков, и Сурай чувствовали, что вот-вот он сорвется.
А сорваться он мог по-всякому. Мог подраться. Мог оскорбить. Любил Колька подчеркнуть, выпятить уродство в человеке — горб, косоглазие, хромоту. Если видел у кого протез ноги, то мог ему сказать: «Тебе хорошо. Сегодня морозно, а эта-то нога у тебя, наверняка, не мерзла». И при этом смеялся, не заботясь, как встречены его слова. Перед тем, кто болел ушами, недослышал, Колька подолгу распространялся о глухих, поругивавшихся между собой. Эти глухие, мол, не понимали друг друга в споре, а потом один из них будто бы жаловался Кольке: «Вот и поговори с таким... Это же глухой черт!» Мог Колька, захлебываясь смехом, рассказывать о том, как пил в праздник с соседом-горбачом, а поругавшись с ним, бегал к его окнам и обещал «выправить горб».