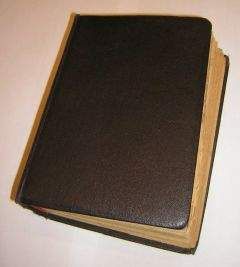Неизв. - i_166602c1f3223913
первым говорить с господом богом! Что, святой Петр, ты говоришь, что ты
слуга господень? Но я хочу говорить с самим начальником. Расступитесь, потому что вы еще меня не знаете. Я бы вам не пожелал узнать меня
поближе». И вдруг по всему небу разлилось безмерное золотое сияние, среди которого появился почтенный старец в белоснежном одеянии; возле
старца стоял светловолосый юноша в забрызганном кровью мундире и с
терновым венцом, вместо фуражки, на голове. Старец указал перстом на
большую книгу, которую держала перед ним в руках прекрасная дева, и
громовым голосом спросил Дуба: «Подпоручик Дуб, почему преследовал ты
бравого солдата Швейка? Зачем заставил его выпить бутылку коньяку?»
Подпоручик Дуб не ответил на это, и юноша простер руки, в которых
подобно расцветшим розам алели кровавые раны. Тогда старец воскликнул: «Иди во ад!» – и подпоручик слетел на землю. Сияние погасло, старец
исчез, юноша с терновым венцом заплакал и ушел, закрыв лицо белым
покрывалом, и Швейк проснулся со словами: – И откуда это человеку такая дрянь в глаза лезет?
Начинало смеркаться. Швейк схватился за карман и тут только понял, какую
понес он вчера утрату. Он быстро вскочил на ноги, дрожа от холода. Все
спали, и только караулы мерным шагом ходили взад и вперед между соснами.
Швейк вышел на опушку леса. Там стоял на посту солдат из его взвода; услышав за собою шаги, тот вздрогнул от неожиданности и, вскинув
винтовку, крикнул:
– Стой! Кто идет?
– Ну, чего ты всполошился? – недовольным тоном спросил Швейк. – Это я, иду на разведку. Что ж, ты меня не узнаешь, что ли? Иисус Мария! Ох, уж
эти мне новобранцы! Ни к чорту то вы не годитесь!
– Ах, так это ты, Швейк? – протянул солдат, опуская винтовку. – Не
знаешь ли, будет сегодня кофе или нет? Не растреляли ли мы вообще то
наши кухни?
– Не знаю, братишка, не знаю, – буркнул Швейк. – У меня нет времени лясы
точить. Они нам еще зададут перцу, москали то.
– А отзыв и пропуск знаешь? – спросил солдат, на что Швейк сквозь зубы
процедил:
– Потерянная трубка.
С первыми лучами солнца снова заревели русские орудия; артиллерия, словно сорвавшись с цепи, громила станцию, мимо которой шел Швейк на
поиски своей трубочки, громила, не жалея снарядов, как будто их было у
нее слишком много, и она хотела от них поскорее избавиться. С батареи, вероятно, его заметили и начали обстреливать шрапнелью. Потом где то
вблизи застрочил пулемет, поливая свинцом все поле, так что Швейк счел
более благоразумным укрыться за зданием станции. Мало по малу сообразив, откуда и куда летели пули, он, когда пулемет умолк, двинулся по линии
огня. Вскоре он добрался до большой воронки от тяжелого снаряда, уничтожившего их четвертый взвод, и несколькими шагами дальше, как раз, когда он думал, что ему, пожалуй, придется пробродить таким манером до
второго пришествия в поисках своего потерянного счастья, – его глаза
заблестели.
В сырой траве лежала трубка, его трубка, и капли росы сверкали на ней, словно слезы, которые она пролила по своему хозяину. Швейк нагнулся, чтобы поднять ее, и пулемет начал в это мгновение шпарить ему прямо под
ноги.
Он поднял трубку, которая вдруг дрогнула в его руке. Швейк со всех ног
бросился обратно за станцию.
Там он вынул из хлебного мешка пачку табаку, набил свою трубочку и хотел
ее зажечь; и лишь когда он поднес ее ко рту, он заметил, что в ней
нехватало кусочка мундштука и кусочка головки. Их начисто отбило пулей, словно отрезало, и Швейк понял, что это случилось в тот момент, когда он
нагибался за трубочкой. Он высунул руку, державшую трубочку, за угол и, погрозив ею по направлению русского фронта, с презрением промолвил: – Сволочи! Разве честный солдат делает такие гадости другому честному
солдату? Кто вас учил воевать таким образом? Свиньи, подлецы.
Ответа на этот вопрос не последовало; только гранаты и шрапнель градом
сыпались на станцию, а затем огонь был перенесен на некоторое время куда
то за лес, откуда на него отвечала австрийская артиллерия.
А позади догоравшего склада сидел на корточках Швейк с искалеченной
трубочкой во рту и ждал, пока на тлевших головешках закипит в котелке
кофе. Ничто не мучило его совести, и божественная невинность сияла на
его грязном, вымазанном сажей лице; он безмятежно принялся за кофе, а
потом, растянувшись на солнышке, запел: Знаю я чудесный домик,
Там сидит любовь моя
И прилежно вышивает,
Шьет платочек для меня.
Хорошо тебе, девчонка!
Шить платочек – ведь игра.
Мы же, бедные солдаты,
Мы в строю стоим с утра.
Стой в строю утеса тверже,
Заклинен, как гвоздь в стене…
Вот примчалась вражья пуля
И впилася в руку мне.
Вышибла бойца из строя…
Унесли, лежу больной.
Напишите, что я ранен,
Моей кралечке домой.
Одну руку отстрелили,
Ну, а та – раздроблена.
Приезжай да полюбуйся,
Что дружку дала война!
Нет, зачем тебя мне видеть,
Не хочу совсем тебя;
Славы мне венок сулила,
А я верил все, любя.
Боевая песня Швейка сливалась с воем снарядов. Он пел куплет за
куплетом, пока не добрался до того, где раненый отвечает девушке, что ей
не следовало ходить к солдатам в казарму и баловаться с ними. Тут он
умолк, потому что неподалеку от него раздались чьи то стоны и плач.
Швейк пошел на голос. Сразу же за складом лежал на животе молодой
солдатик и полз, опираясь на локти, к Швейку; брюки его намокли и
почернели от запекшейся крови, он стонал при каждом движении и до жути
напоминал кошку с перебитым позвоночником.
При виде Швейка он с мольбою сложил руки: – Помогите, пане, помогите! Ради матки бозки, помогите!
– Ну, что с тобой случилось, парнишка? – спросил Швейк, подходя ближе.
Затем, присмотревшись, он по штанам солдата понял, что тот ранен пулями
навылет в обе икры.
Швейк осторожно поднял его и отнес за склад; там он раздел его, вспорол
прилипшие к телу штаны и принес из колодца воды обмыть раны. Солдатик
только вздыхал, следя глазами за работой Швейка. Перевязав его, Швейк
дал ему хлебнуть из своей фляги и весело промолвил: – Пустяки, брат! Все прошло сквозь мягкие части, и кость не затронута.
Солдат погрозил русским кулаками:
– Холеру вам в бок, сукины дети! Ай, мои ноги, мои ноги! И он снова
заплакал.
– Брось, сынок, – ласково сказал Швейк. – Ложись ка лучше спать и не
скули, чтобы не пришел кто. А я пойду пошарю, нет ли тут чего нибудь
поесть. Впрочем, постой! Лучше положу ка я тебя туда, в ту воронку, а то
еще, чего доброго, тебя тут придавит стеной, если они ее совсем раскатают.
Он перенес раненого поляка в воронку, а сам полез в здание станции. В
канцелярии ничего не осталось, кроме разбитого телеграфного аппарата, но
в подвале Швейк обнаружил корзину с большой бутылью в плетенке. Он
срезал колпачок из ивовых прутьев, закрывавший горлышко, выковырял
штыком пробку и сунул нос в бутыль. Глаза его заблестели.
– Ах ты, господи! – воскликнул он. – Ну и винцо! Здесь, должно быть, был
хороший начальник станции, вот уж позаботился обо мне.
Он нагнул бутыль и отлил себе изрядную порцию в манерку; затем
попробовал, прищелкнул языком и единым духом опорожнил ее.
– Эх, хорошо! – промолвил он. – Словно у Шульца в «Бранике» на Холмах.
Но только, говорят, вино натощак не очень то полезно.
Он вынес бутыль из подвала наружу, а потом пробрался в выгоревший склад.
Склад был наполовину пуст, и только в одном углу сиротливо жались
несколько обгорелых ящиков.
Ловко лавируя между обвалившимися стропилами. Швейк пролез к этим ящикам
и штыком взломал крышку верхнего из них; доска затрещала, и Швейк от
глубины души вздохнул;
– Нашел, нашел! Бог меня, видно, не забыл.
В ящике оказались русские мясные консервы, и Швейк немедленно принялся
перетаскивать их в ранце и в полах шинели в воронку к своему раненому
товарищу, куда он перенес также и бутыль. И, трудясь, как муравей, он
совершенно забыл о снарядах, продолжавших долбить развалины несчастной
станции.
Когда раненый со всех сторон оказался обложенным жестянками консервов, Швейк принес последнюю партию, высыпал ее в воронку и, сам залезая туда, самодовольно промолвил:
– Ну вот, теперь я столько натаскал сюда, как воробей в гнездо. Теперь
пусть никто не воображает, что выгонит нас отсюда.
Он открыл несколько жестянок и пошел разогревать их на пожарище станции.
Возвратившись с горячей едой, он с удовольствием сказал: – А знаешь, сынок, у русских консервы очень замечательные. Это что то в
роде жареной печенки с лавровым листом.
Они принялись за еду и питье; вино согрело их, и из желудка, вместе с