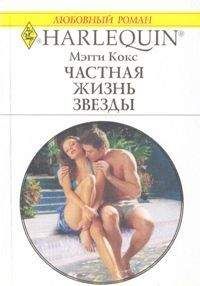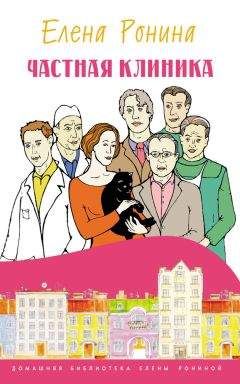Эдуар Род - Частная жизнь парламентского деятеля
— Дети то же здоровы.
— Ах, здоровье всего дороже!.. A за то время, что вы о нас позабыли, у нас столько важных перемен… вы слышали?
Мишель опять почувствовал, что сердце его сжалось:
— О! — произнес он.
— Да,— отвечала г-жа Керие,— положение затруднительное, и мы нуждаемся в вашей опытности и руководстве… Но скажите, я вас не отвлекаю от дела? Вы можете мне подарить несколько минут?
— Я к вашим услугам.
— Ну, так в двух словах, вот в чем дело. Бланка выходит замуж. Вы знаете, что она уже отказала нескольким претендентам, хотя представлялись выгодныя партии. Мы предоставляем это ея свободному выбору — и я, и мой муж. Но на этот раз мы считаем необходимым вмешаться. Она уже в тех летах, когда пора подумать серьзно о своем положении. Неправда-ли и ваше мнение таково?
Мишель сделал над собою усилие, чтобы ответить:
— Разумеется.
— Прекрасно. Ей сделал предложение человек, который обладает всеми необходимыми качествами. Он, правда, не первой молодости, но как вы сами знаете, это является лишь гарантией счастья. У него прекрасное положение, значительное состояние… Он, кажется не принадлежит к числу ваших друзей…
Так как она остановилась, Мишел переспросил:
— Из моих друзей?
— Я говорю о ваших политических друзьях. Это г. Граваль… Вы его знаете, не правда ли?..
— Да, я его немного знаю.
— Это, кажется мне, в высшей степени порядочный человеь, хотя немного слишком красный. Быть может когда он был депутатом, у вас с ним были схватки. Но это конечно не может Бланке помешать выйти за него. К тому же он более не занимается политикой и всецело отдался своим историческим работам. Мы надеемся, что вы не откажетесь нам помочь в этом деле и так как мы находим этот брак вполне приличным, окажете свое влияние на нашу дочь?
Мишель не отвечал ни слова.
— Что-жь, можем мы на вас разсчитывать? — спросила она еще раз.
Казалось он раздумывал:
— Граваль,— сказал он с усилием, после непродолжительнаго молчания,— не принадлежит к числу людей, убеждениям которых я симпатизирую. Но это конечно не имеет значения для m-lle Бланки, а ничего пятнающаго честь я не знаю за ним.— Он остановился.
— И так это дело решенное? — сказала г-жа де-Керие.
— Позвольте, сударыня,— отвечал он.— Я сказал вам, что никогда не слышал ничего худого о г. Граваль, что конечно уже много для человека, который занимается политикой… Но я его очень мало знаю. Прежде чем вмешаться в это дела, я должен собрать сведения на его счет… Дайте мне два или три дня, и тогда я напишу m-lle Бланке…
— Напишете? А почему бы вам не повидаться с ней?
— Или я увижусь с ней… смотря по обстоятельствам…
— Я буду вам очень благодарна. Еще раз прошу извинения, что вас обезпокоила. Быть может я помешала вам пожать новые ораторские лавры.
Она ушла, с любопытством бросая взгляды на фигуры, сновавшия около нея. Мишель же возвратился в залу заседаний и молча занял свое место. Уже перешли в текущим делам, и прения шли среди всеобщаго равнодушия. Трибуны были пусты. Глухие голоса ораторов терялись в гуле разговоров.
— Вы сделали ошибку,— сказал Торн тоном упрека, протягивая руку Тесье и собираясь уходить
— Мне-то что за дело? — пробормотал Мишель, нахмурившись.
Торн на мгновение остановил на нем проницательный взгляд:
— В наших руках сосредоточены такие важные интересы,— сказал он медленно,— что этого не следует забывать!
— Забывать? — переспросил Мишель с искусственным смехом.— Но мы только о них и думаем.
И сухо прибавил:
— Только мы не всегда согласны, вот и все!
Когда Торн удалился он мог наконец уединиться. Тысячи бурных мыслей кипели в его уме. Как часто, с тех пор как он любил Бланку, он думал об ея замужестве; он думал об этом даже с каким-то наслаждением, ему отрадно было сознавать безграничность своего самопожертвования. Он говорил тогда себе: “Я сам посоветую ей это. Я ей докажу, что забыв меня, она может быть счастлива или если счастье уже не возможно, то по крайней мере, став женою честнаго человека, она найдет то спокойствие, ту уверенность в завтрашнем дне, которую дает правильная жизнь, посвященная исполнению долга и которая постепенно успокоит душевныя бури. Я скажу ей, что если нас разделяет непроходимая пропасть, то это еще не значит, что все в жизни потердно, что перед нею еще долгие годы, и они одарят ее чувствами столь же прекрасными, как и любовь. Я ей скажу, что люблю ее, и тем не менее хочу ее потерять, хочу, чтобы наша любовь была принесена в жертву. Я все ей выскажу. Она поймет. Она без радости и надежды кинется в жизненный поток. Потом, позднее, думая об этих скорбных днях, она полюбит самое воспоминание о них, полюбит воспоминание о первом, чистом чувстве, которое не было омрачено низостью, которое освящено страданием и самоотвержением. Моя жертва быть может закалит ее сердце и сделает его безопасным от других бурь”. Таковы были планы, которые строил он, когда в уме его появлялась отдаленная идея о возможности замужества Бланки, даже еще в ту эпоху, когда он видел ее каждый день и жил опьяненный безумным чувством. Все эти благородныя обещания, эта гордая решимость, эти благоразумныя разсуждения пришли ему теперь на ум и он печально и с иронией улыбался былой своей наивности, ему они представлялись милыми химерами юности, какими их видишь в тумане прошлаго с обломанными крыльями. Теперь, когда настала роковая минута и другой должен был овладеть тою, которая была так далеко от него, но постоянно тут, в уме и в сердце, о, теперь ощущение было совсем иное, чем он представлял оебе! Это была не легкая рана, которую могло залечить благородное сознание самоотвержения, нет это была рана глубокая, кровавая, и расширялась с каждою минутой.
Бланка принадлежит другому!.. И кому-же? Мишель знал этого Граваля; и если он попросил отсрочки, то не затем, чтобы собрать сведения об этом человеке, а просто чтобы иметь время размыслить, чтобы собраться с духом, чтобы выиграть время. Конечно Граваль не был безчестным человеком: это был человек дюжинный, простой, одно из тех существ, которых много во всех слоях общества, которые не делают зла только по обычаю, не выказывают и особой доброты, в силу равнодушия, люди с обыденными вкусами и чувствами, отличающиеся друг от друга самыми незначительными чертами. Они действуют, пользуются успехом, их уважають, из них выходят посредственные мужья, почтенные отцы семейств. Редко можно упрекнуть их в чем либо, не за что особенно и похвалить. Они не возбуждают ни любви, ни ненависти,— их терпят. В силу этого Граваль был вполне приличным депутатом, покорным большинству, с честью работавшим в комиссиях, мало говорившим и никогда не прерванным во время речи. Без всяких особых причин его выбрали в депутаты, и выход его тоже не был вызван ничем особенным. В ожидании лучшаго, он занялся почтенными историческими трудами, которые быть может не в далеком будущем сделают его членом Института. Превосходная партия во всех отношениях, как сказала г-жа Керие: помимо своих несомненных достоинств, он обладал значительным состоянием, и так как никогда не позволял себе никаких излишеств, то несмотря на свои 45 лет, был еще свежим мужчиной. И Мишель с дрожью пытался возстановить в воображении образ этого человека; но ему припоминались лишь рыжеватыя бакенбарды, плоские волосы, начинающие седеть, толстая шея, очки в золотой оправе, весь он — сидящий на кресле левой в соседстве центра, перебирая бумаги, слушающий с полузакрытыми глазами, порою дремлющий… И почему этот Граваль пожелал иметь женою именно Бланку?.. Разумеется потому, что пришло время, когда ему можно жениться, отчасти потому, что за ней есть приданое, отчасти из-за ея красоты, из-за ея молодости и связей, кто знает, быть может и то, что она в дружбе с семьей Тесье являлось в глазах этого человека аргументом в пользу женитьбы на этой девушке. Он вероятно разсчитывал, став мужем Бланки, сблизиться с Тесье и таким образом подвинуть свою политическую карьеру, так как честолюбие его не угасло и он вероятно мечтает вернуться в Палату. Раз он был отброшен на грани политической сферы, он может незаметно, не привлекая ничьего внимания, перебраться из леваго центра в правый, и так-же как он был с якобинцами, пока их партия шла в гору, так теперь он будет стоять за реакционеров, потому что реакционеры с каждым днем завоевывают почву… И этот человек будет обдадать Бланкой, ему будут принадлежать ея ласки, ея жизнь!.. С жестокою ясностью Мишель видел перед собою, день за день, медленную драму, все фазы которой он мог проследить, банальную драму незаметной гибели прекраснаго существа, которое он любил, избранной души, которую мало по малу поглощает эта другая грубая душа, как насекомое выпивает все благоухание нежнаго цветка! То, что представлялось умственному взору Тесье, была нормальная, правильная, порядочная жизнь, такая, какою создает ее долг, обычай и благопристойность; справедливость и мораль требовали, чтобы он уступил и пожертвовал своею любовью, так как она была преступна. Последнее письмо, которое он напишет Бланке, или последния слова, которыя он ей скажег, ввергнут ее в эту жизнь с порядочным человеком; это и есть добро; зло-же,— это экзальтация, энтузиазм, самоотвержение, все те возвышенныя, благородныя чувства, которыя Бланка пробудила в нем, и которыя теперь надо было стереть одним взмахом. Этого требовал порядов, добродетель, мораль,— все те боги, из-за которых Тесье начал свой политический крестовый поход. И в эту минуту он сомневался в них, он не в силах был победить властный протест своего сердца, он тщетно пытался убедить свою совесть, что эта чудовищная жертва была необходима. Совесть говорила в нем слишком громко; ея голос заглушал все остальные и заставлял, несмотря ни на что, себя слушать… Одно мгновение он утешал себя мыслью: не постараться-ли отыскать для Бланки другого мужа, достойнаго ея… Но сейчас-же совесть сказала ему: тогда ты, быть может, страдал-бы еще больше. Не существует страсти, которая не была-бы эгоистична; и страсть владевшая им, так-же как и другия, вела в ошибкам и заблуждениям. И в этот роковой час кризиса, он ясно видел, что любил так-же, как и все любят, быть может с большей силой и искренностью; он испытывал почти физическую боль, приковывавшую его к этой скамейке, делавшую его равнодушным к тому, что происходило вокруг него, в этой зале, где он оставался, почти не сознавая этого. Один из его товарищей приблизился к нему, чтобы поговорить с ним о каком-то деле. Усилие, которое потребовалось для него, чтобы выслушать и ответить, совершенно изнурило его. Он чувствовал, что в горлу его подступают рыдания, что он едва сдерживает их, что он разрыдается тут-же на глазах у всех и ему стало страшно. Он чувствовал себя одиноеим, безконечно одиноким, посреди этого шума, этих голосов и этих существ, с которыми он встречался ежедневно, в течение многих лет, из которых никто не мог сочувственно отнестись в его горю, которые засмеются, если когда нибудь откроют его тайну, с насмешливой снисходительностью или с удовлетворенной ненавистью, будь это друзья или враги, и разгадают, что он совсем иной на деле, чем каким его они себе представляют. Теперь он ничего не чувствовал кроме безконечнаго отвращения во всем людям и в себе самому, в своей деятельности, своим речам, проектам, борьбе, он испытывал потребность убежать от всего этого, спрятаться, уединиться, погрузиться в молчание, которое одно могло его успокоить.