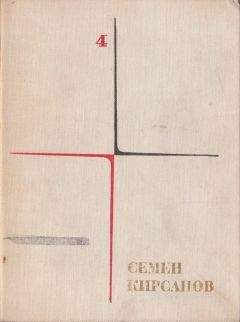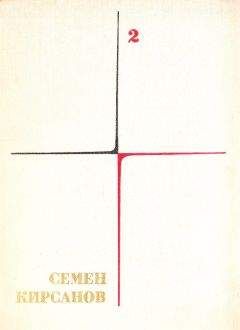Семен Кирсанов - Собрание сочинений. Т. 3. Гражданская лирика и поэмы
Удивленье
На это я готов и сам…
Оставим удивленье людям!
Давайте привыкать не будем
к уже обычным чудесам!
Пусть вызывает изумленье
любой полет и приземленье;
и в комнате, включая свет,
считайте, что включен рассвет.
Улавливая речь в эфире,
свеченье лиц, цветенье роз,
давайте говорить всерьез,
что мы живем в волшебном мире,
что мир творений и явлений
весь состоит из удивлений!
Мы книги тайные прочли
и от неведенья пришли
к мезонам крошечным, и квантам,
и к галактическим гигантам,
и каждый полупроводник —
к пещере сказок проводник!
Не надо позволять глазам
привыкнуть «Отворись, Сезам!»,
когда оно по меньшей мере
без рук распахивает двери.
Не будем привыкать к Луне,
считавшейся оккультной тайной,
к тому, что герб необычайный
лежит у кратера на дне.
И «ах!» не надо подавлять
в себе, товарищ и подруга:
мы встретились, чтоб удивлять
любовью, разумом друг друга.
О, это радостное «О»
из губ, из сердца твоего!
Ведь восклицательные знаки
печатают и на Гознаке
вокруг советского герба,
где мира ясная судьба.
Пусть изумляется Природа,
как удивительна Земля,
когда летят два корабля
с посланцами людского рода
к звезде, что в сумерках плывет…
Кто удивляется — живет!
Заговорные стихи
Поработайте, снега,
на людей,
чтоб на каждые сто га
шли пахучие стога
в луговой страде.
Поработайте, снега,
на людей.
Поработайте, дожди,
на людей,
для пшеницы и для ржи, —
отличиться вы должны
и в своем труде.
Поработайте, дожди,
на людей.
Поработай и вода
на людей,
чтоб набрали невода
светлого, как никогда,
серебра сельдей.
Поработай и вода
на людей.
Поработайте, ветра,
на людей,
пригоните нам с утра
день счастливей, чем вчера,
всюду и везде.
Поработайте, ветра,
на людей.
Поработайте, слова,
на людей,
чтоб не никла голова,
как осенняя трава —
ни в какой беде, —
поработайте, слова,
на людей!
ВОЙНА — ЧУМЕ!
Поэма (1937)
Есть достоверные примеры, что крысы загрызали маленьких детей; гусям они выедают плавательные перепонки на лапах; у торговца животными Гагенбека крысы убили трех молодых африканских слонов тем, что разгрызли подошвы этим могучим животным.
Брем. Жизнь животныхСтарый дом
Жили-были Ваня с Машей
в тихом дальнем городке;
с их историей домашней
я знаком накоротке.
Так я начал «жили-были»
эту сказку или быль,
чтобы в этой сказке-были
вы их так же полюбили,
как я в жизни их любил.
Маша — в доме невысоком —
дело помнила свое:
в блеск протерла стекла окон,
в лоск погладила белье,
проложила окна ватой
и бумаги синеватой
накрошила на нее.
Стены выбелила мелом,
печь убрала помелом,
с паутинкой сняла смело
паука — и поделом!
Велся дом, как надо, с толком:
с пирогами в печке лист,
чисто, вымыто, но только…
крысы в доме завелись.
В эту ночь приплыло в гавань
судно с флагом расписным;
в эту ночь забылся Ваня
мутным сном и видел сны.
Крысы тайно, быстро, снизу
из подпольных трюмных дыр
пробирались по карнизу
в русский город, в мирный мир.
Ряд зубов во рту-обойме,
крыса крадется с угла,
дырку вынюхала в доме
и, как пуля, в пол ушла.
Уж таков шпионский норов
контрабандных злых проныр:
распеваючи про мир,
в маске мирных договоров,
в шкаф, где хлеб и сало есть,
незамеченно залезть,
ложь восторженную плесть,
обратиться в бегство быстро, —
яд диверсий, зуд убийства,
в глазках лесть, а в зубках месть.
Я бы мог, пойдя на риск,
взгромоздить сравнений горы.
С кем еще сравнить бы крыс?
Но сейчас без аллегорий
мной описан крысий рыск.
Чтоб не путал критик кислый, —
что? да кто? да что потом? —
скажем: крысы — это крысы,
те, что влезли в Ванин дом
с корабля в ночное время,
крысы с шерстью и хвостом,
что описаны у Брема
(«Жизнь животных», 1-й том).
В щелках дома скрип и щелк.
Крысы видывали виды.
Обходили порошок,
если с виду ядовитый.
Крысы знают метод тонкий:
гримируясь в час ночной,
та — прикинется зайчонком,
эта — белочкой ручной.
Но не скрыть в невинной маске
хвост японский, зуб германский,
и поэтому они,
свет и солнце ненавидя,
день-деньской проводят, сидя
в тайниках своих в тени…
Крысы ночью влезли в шкаф,
и продукты в нем протухли,
крысой пахнут даже туфли,
виден хвост из-под мешка,
тащат хлеб исподтишка,
сгрызли край у ремешка.
Потеряли крысы совесть,
всюду зубок острый кус,
уксус выпили и соус,
позабыли в супе ус!..
Так выходит в сказке нашей —
будто я по крысам спец.
Но теперь о Ване с Машей
я хотел бы песню спеть.
Только как бы поумелей
протянуть рассказа нить,
чтобы их не засластить
липко-сладкой карамелью:
мол, «бодры! сильны! стройны!
Актив профдвижения!
Девушки моей страны!
Наши достижения!»
Поюжней земли Чукотки,
где рыжеет леса масть, —
в мерзлом городе Охотске
после родов от чахотки
умерла у Маши мать.
Маша помнит, как поется,
«Волочаевские дни»,
шли в тайгу белояпонцы,
тятю ранили они,
и отцу рубахой драной
обмотала Маша рану
у таежных у костров…
Тятя помер… Снег растаял…
В городке — советский строй.
Подрастала Маша, стала
медицинскою сестрой.
Днем — в родильном доме труд.
После этого — ученье:
акушерский курс вечерний,
Маша кесарским сеченьем
в анатомке режет труп.
Год пройдет, один-другой,
и она в халат оденется,
чтоб помочь больной роженице
легкой бережной рукой.
Ваня был простым рабочим,
по рабочим — не простым:
самолетные хвосты
мастерил, упрям и точен.
Очки — синего стекла,
но, бывало, смотрит мимо,
смотрит, вспомнит и дотла
память жжет асфальтным дымом
беспризорного котла.
Был чудилой из чудил,
по ночам в уме чертил,
чтоб детали подлетали
прямо к Ваниной руке,
чтобы синий алюминий
мчался птицей вдалеке.
Он мечтал. Но хвост-ракета
всем мечтаньям не чета.
Без посадки против ветра
сделать тыщу километров
в час — могла его мечта!
Так и жили Маша с Ваней.
Повстречались зимним днем,
в загс пошли весною ранней.
Им кристальный строят дом,
с телефоном, с небом, с ванной,
а пока — домишко ветх:
комнатенка в один свет,
старорусская работа,
в сенях узкие ходы,
даже нет водопровода,
а в углу ведро воды.
Я видал дома большие;
мы покрыли их стеклом,
мы гранитом их обшили,
и в былой глуши Коломн
даже фрески есть в квартире,
больше, чем в античном мире,
насовали в них колонн.
Я совсем не против фресок, —
фрески в наших интересах,
но в рассказике моем
дом стоит не очень пышный,
не кирпичный, а типичный
деревянный старый дом.
За плетеною корзиной,
где просыпан мелкий рис,
живет старый черт крысиный —
злой розоволысый крыс.
Разузнал пасюк заядлый,
в мышеловках что за яды.
Хитрый химик, крыса Хлох,
этим ядом кормит блох.
Крыса смыслит в химии,
знает все — где О, где Аш,
в пол уперши лапки хилые,
точит зуб на домик наш.
И в прованской жирной тюре
сам лежит, как в море мыс,
крысий дуче, крысий фюрер,
водяной микадо крыс.
Он кричит крысятам здесь:
— Приготовьте яда смесь!
Мы цианом ложки смажем,
чтоб схватила Ваню с Машей,
заикав от смеха, смерть!..
А Сузука, злая крыса,
держит хвостик между ног,
отвечает с кучки риса:
— Вот приедет мой сынок! —
На заморском корабле,
на веревке-конопле,
в темном трюме конопатом
жрет сухарик за канатом
среди бочек и корзин.
Любо морем плыть ему,
и везет Сузукин сын
в город черную чуму.
Утром след на небе санный,
за окном сусальный лед.
Рано встали Маша с Ваней,
он из чашки умывальной
ледяную струйку льет.
Смотрит Маша: чай кипит ли?
Хорошо ль плита горит?
— Мне сегодня снился Гитлер… —
Ваня Маше говорит. —
Слышал я тот голос хриплый
в визгах радио не раз,
а во сне таращил Гитлер
на меня отекший глаз.
Снилось мне — терновой проволокой
наш поселок обнесен,
жирный дым над нашей кровелькой…
— Это самый скверный сон!..
Зимний пух гудком разорван,
за ночь снов не перечтешь.
Ваня взял чертеж узорный
и, свернув трубой подзорной,
посмотрел на свет в чертеж.
Много дуг по кальке синей
Ванин циркуль описал,
и из этих легких линий
взлетит птица-алюминий
с кальки синей в небеса.
Будет птица в день тревожный
самой быстрою в бою.
Держит Ваня осторожно
и в подзор трубы чертежной
видит выдумку свою.
Заморский гость
Под водой скользит акула,
дном карабкается краб,
волны катятся сутуло,
по воде дымком подуло —
то колеблется корабль.
И скрипит в каюте койка,
и от сетки клетчат след.
Пассажир стоит какой-то,
смотрит скляночку на свет.
Веки вспухшие, слипаясь,
видны в стеклышке больном;
капля ампулы слепая
мутным движется бельмом.
В темном трюме за канатом
сидит маленький пасюк;
он прогрыз ушастый тюк,
слышит ухом розоватым
клокотание волны.
Зыбкий носик лапки моют,
глазки — ампулы с чумою —
желтой жидкостью полны.
Он, как будда, сел спросонков,
ожирел пасюк в пути,
и кишит в крови крысенка
чумно-палочный пунктир.
Пароход сиреной порет
воздух в снежном серебре,
поворачивает море
нашим городом к себе.
Между гаванью и палубой
протянулася пенька.
Ее тащат (подплывала бы)
два портовых паренька.
Между гаванью и палубой
на канате диск повис,
чтоб на берег не попала бы
с корабля ватага крыс.
Вот идет, качаясь, трапом,
скрипят доски по пятам,
с золотым фуражки крабом
конопатый капитан.
Шагом к суше не привычным —
за плечом морская ширь —
сходят: лоцман, боцман, мичман,
а за ними — пассажир.
Он как будто пьян вдрызину
и не видит, что к нему
злой крысенок прыг в корзину,
и несет сынок крысиный
в город черную чуму.
Город — тихий, дальний… Впрочем,
надо справку вставить в стих:
наш Восток — Далек не очень,
Океан — не очень Тих.
— Что в газете, Ваня, нынче?
— Я прочел в обзоре ТАСС,
что в районе пограничном
наш сосед тревожит нас…
Что японские отряды
у столба со знаком «5»
перешли на нашу пядь;
наш боец убит опять,
и такой большой утраты
не забыть и не замять…
Будто пули свист щемящий
на развернутом листе!..
И читает Ваня Маше
сводку в утренней «Звезде»,
что в Мадриде бомба Гитлера
разнесла родильный дом…
Маша с глаз слезинки вытерла:
— Читай дальше, о другом!..
— Дальше сказано, что наши
не сдаются никому,
дальше гонят, отогнавши,
гитлеровскую чуму.
Но готовит Гитлер силы,
в Нюрнберге крик и шум, —
его химики взбесились:
ими спрятаны бациллы
в пулю новую «чум-чум».
А в Берлине — новый кризис,
дрессирует фюрер крыс,
чтоб они, на нас окрысясь,
нашу землю стали грызть,
чтобы пороху на помощь
двинуть армию чумы!..
— Кстати, прошлой ночью, помнишь,
странный писк слыхали мы.
Может всякое случиться,
я видала крысий хвост… —
Кто-то тихо в дверь стучится…
К Ване с Машей входит гость,
не похожий на фашиста.
Мягко, вежливо, пушисто
(из корзины — коготок)
просит гость воды глоток.
— Вы откуда?
— Я оттуда,
где из дерева посуда,
из бумаги города… —
Выпил воду, важно кланяется.
— Ну, спасибо, до свиданьица,
очень вкусная вода…
Вдруг, шатнувшись, Маша вскрикнула,
расплескала ковш, дрожит.
Из корзинки крыса прыгнула,
прямо к плинтусу бежит.
Писк крысиный и мышиный
вдруг почудился семье.
Кот, как швейная машина,
спину выгнул на скамье.
А крысенок деловито
ищет ход под половицей,
щепку старую прогрыз,
осторожно вполз под угол,
дырку черную понюхал
и учуял запах крыс.
Перед кучей хлебных крох
сына ждет Сузука. Рядом
с ней заведующий ядом
восседает, крыса Хлох.
Он на ломтике свинины,
с синим шрамом на щеке,
лапки в кислоте синильной,
и животик в мышьяке.
Крысу крик встречает шумный,
общий взмах передних ног:
— Вот наш умный, вот наш чумный,
чудный, чумненький сынок!
Вот хороший, вот уважил,
долу крысьему помог,
будет в доме хрип и кашель,
уйму всяческой поклажи
мы утащим под чумок!
Крысий фюрер чмокнул гостя
и благодарность за чуму,
крестик свастики на хвостик
с честью вешает ему.
Как сынку крысиха рада:
— Ване с Машей надо яда.
Заразим чумою дом!..—
И, чуменка писком чествуя,
идет факельное шествие
жадных глазок под полом…
Беда в доме
В эту ночь перед бедой
плохо спалось Ване с Машей.
Из простых цветастых чашек
в этом доме пили счастье
с чаем, с чистою водой.
Завсегдатай-счастье мигом
прекращало спор и плач,
порелистывалось книгой,
перекидывалось в мяч.
Даже старый стул треногий
в радость был — хоть песню пой!
Потому с такой тревогой
я веду рассказик свой.
Не смотри, товарищ, мимо,
а понять меня сумей, —
может, это ты с любимой,
может, это я с моей.
Пар кипит, гудок шипит.
В семь часов пора к заводу.
Захотелось Маше пить,
зачерпнула кружкой воду…
Горло жженьем припеклось,
белый свет пятном покрылся,
под ведром мелькнуло рыльце,
покачнулась Маша вкось…
Горло болью пробуравлено,
сердце падает, стуча…
— Ваня, Ваня, я отравлена,
позови скорей врача!..
Он хватает свою куртку,
свою кепку с косяка,
вдруг махоркою окурка
поперхнулся и зака…
и закашлялся, закашлялся,
чуть-чуть горло не порвав.
На платочке пены кашица,
рот кораллово-кровав…
— Что с тобой?
— А что с тобой?
— Все пройдет само собой!.. —
Ванин кашель слышит Маша.
Это так похоже на…
А на что — подумать страшно!
Помощь скорая нужна.
— Ты в жару!
— А ты в поту! —
— Я за доктором пойду…
Или… вместе мы поедем
на автобусе… к врачу…
Тошно… страшно… Я хочу
посмотреть энциклопедию,
ту, которая на «Чу»…
Здесь на полке книжек много —
Маяковский, Пушкин, Гоголь…
Рядом синие тома.
Том девятый я открою,
посмотрю сейчас сама…
Чудь, Чугун, Чунцин, Чума…
Признак: хрип и кашель с кровью,
колотье, упадок сил…
Ваня руки опустил,
опустилось сердце Маши,
позабыла боль и яд,
и молчат они, стоят,
будто задремавши…
Если мы к врачу поедем,
то чума за нами следом
тоже выйдет из ворот,
и чума в трамвай войдет,
и чума шмыгнет в больницу,
и начнет в чуме валиться
смертью меченный народ.
Но, чтоб смерть не перелезла
вслед за нами в каждый дом,
мы чуму ключом железным
в нашей комнате запрем.
Запирай покрепче дверь,
хорошо замок проверь!..
И идет к окошку Маша,
где в серебряном саду
ель растет и пальма машет
в ледяную высоту.
Прижимает к пальме палец,
по стеклу проводит вскользь,
чтобы пальмы расступались,
чтобы таяли насквозь.
И рукою ледяною
Маша на стекле седом
пишет: «Здесь больны чумою,
не входите в этот дом!»
Пишет буквами навыворот,
чтобы с улицы прочли.
У закрытых на замки ворот
люди разные прошли.
Прочитали, — кто в райком,
кто на санках, кто пешком,
кто — крепясь не разрыдаться,
кто без шапки, не дыша,
кто в больницу, кто в редакцию,
кто бегом в военный штаб…
Ванин лоб на наковальне —
лихорадкою нагрет.
В лоб чума вбивает Ване
добела горящий бред.
Будто он — красноармеец,
он у Гитлера в плену…
В небесах кровавый месяц.
Все похоже на войну.
Бой идет, а Ваня ранен,
штыковой в груди прокол…
Стол допроса. Протокол.
Фюрер спрашивает Ваню,
лезут усики на рот:
— Ты в какую входишь роту?
Сколько войск пришло на франт?
В общем, много ли народу?
— Знать хотите, кто да что?
Сколько нас? Народов сто!
Лишь Октябрь взовьется в Польше —
на народ на польский больше!
Дальше — верные слова —
станет с Тельманом сто два.
— Не шутить в штабной квартире,
отвечать: два-три-четыре! —
Злобен фюрера оскал,
сапогом ударил об пол:
— В ногти колышки! Да шомпол!
Где стоят твои войска?
— Наши части, — кроме шуток,
серп и молот на звезде, —
стоят в двух шагах от Всюду,
в трех минутах от Везде!
Наши части — наше счастье
от несчастья отстоят,
а сегодня — наши части
под Германией стоят.
Снова жгут его бациллы,
подбавляют в лоб огня…
Вдруг очнулся он в бессилье,
видит: Маша у окна.
Как прозрачно надпись тает,
буквы влажные растут;
лед на них не нарастает,
хлопья к ним не пристают.
Этих слов никто не смоет!
Мы стоим перед окном,
видим: «Здесь больны чумою,
не входите в этот дом!..»
Через три минуты рупор
черным басовым раструбом
загудел во все дома,
в дрожь приемника мембрана:
— Чарльз, Устинья, Марья, Анна.
Точка. В городе чума.
Война в мышеловке
Мой рассказ дошел до края.
Я от вас не утаю:
жизнь моих друзей, сгорая,
накренилась на краю…
Встань, строка сторожевая,
дай их вырвать из беды!
Может, есть вода живая?
Где достать живой воды?
На окне сияет надпись,
стужа хлещет острым льдом,
щеки жжет мороза ляпис,
снег, сиренев и разлапист,
положил ладонь на дом.
Только нам плевать на холод,
на седые иглы брызг, —
под железный вьюги грохот
начинаем ловлю крыс!
Пусть пожарная охрана,
с каланчи увидя то,
мчится в медном и багряном
колоколящем авто.
Пусть в халатах белых, по уши
краснокрестьем закраснев,
рвет карета «скорой помощи»
в вату хлопья, в марлю снег.
Пусть несут баллоны дыма,
по снегам затопотав, —
от Осоавиахима
люди в серых хоботах.
Дом в кольце. Уже готов
ящик ядов мышьяковых,
круг пружинных мышеловок,
и за ними круг котов
глазофосфорноусатых,
а за ними в цепь осады
плотным строем встали мы
в прочных масках от чумы.
Пока крысы яд процеживали,
нам готовили отраву,
мы крысиный путь прослеживали,
мы нашли на них управу.
Мы учились день и ночь
узнавать чуму с полслова,
и пружину крысолова
коготком не отогнешь!
Есть у нас на всякий раз —
если гибель нам сулят —
против газа — грозный газ,
против яда — едкий яд.
Вот дымком зелено-серым
в щель ползком пролазит сера,
слышен писк невдалеке, —
крысолов умелый снизу
вверх вытаскивает крысу
в беспощадном кулаке.
Тащит он за крысой крысу,
писк и ужас в мире крыс;
мы опрыскиваем крышу
золотой карболкой вдрызг.
У железного ведра
светит круглая дыра;
хочет первой юркнуть крыса,
а другая ей: «Пусти!»
Стали злобно крысы грызться,
аж запутались хвосты.
Их сцепилось чуть не сто,
кольчешуйчатых хвостов!
Потянул пасюк и сузил,
и разбух хвостистый узел,
и попробуй — шевельнись!
Только черный фюрер крыс
мчится вон из тучи дыма
тенью к дыркам выходным,
но стоят неумолимо
крысоловы перед ним.
Ох, он помнит эти лапы:
мягко стелят, жестко спать,
эти ласковые храпы,
и когтей на лапе пять!
Чует он тиски зажима,
хочет выбраться тайком,
но железная пружина
щелкнула за пасюком…
*
Речь покуда шла о крысах.
С ними кончено пока…
Ну, а если б день открылся
шагом прусского полка,
шпорным звоном каблука?
И в пролеты наших улиц
забрели б не пасюки,
а с кривым крестом рванулись
самолетов косяки?
О, пришлось моей стране бы
в глаза Гитлеру взглянуть
и зенитным пальцем — в небе
показать обратный путь!
О, пришлось бы в день осадный
доказать ему, что мы
не из робкого десанта —
спрыгнем с неба в час чумы!
Пусть преступные подонки
сами видят, что нельзя
нашу жизнь маневром тонким
окружить, поджечь и взять!
Будет день, и он наступит!
Отстоим советский дом,
на врага боец наступит
беспощадным сапогом!
Будет день — со дна стиха
чудеса расчудятся,
и моя фантастика,
я уверен, сбудется.
Я уверен, только мы
отстоим отчизну нашу.
Люди будут из чумы
квасить просто простоквашу.
Чтоб бациллы не хирели —
как обыденное
будут делать из холеры
нежное слабительное.
Люди ходят в загс на запись,
водят жен в родильный дом.
Бывший яд — азота закись
мы роженицам даем.
Женщины довольны, —
роды обезболены…
Все болезни смыть с людей
мы прикажем химии, —
в этом деле, может, ей
помогут и стихи мои.
В доме больше нет чумы,
дом очищен и омыт.
Ну, а мы-то не забыли,
наш окуривая дом, —
там ведь Ваня с Машей были?!
Не забыли мы о том!
Разве мы о них забудем
и закончим наш рассказ,
разве к самым малым людям
так относятся у нас?..
Я уверен, вижу, знаю:
и над смертью наша власть!
И для них вода живая
будет найдена! Нашлась!
Есть она! Течет у входа
в наших собственных руках,
в долгой памяти народа,
в славе, в песнях и в стихах!
И из этой сказки нашей
в солнце, в блеске дождевом —
сами выйдут Ваня с Машей,
сами скажут: — Мы живем!
Мы вам всем платочком машем,
в гости в новый дом зовем!
ЗАВЕТНОЕ СЛОВО ФОМЫ СМЫСЛОВА, РУССКОГО БЫВАЛОГО СОЛДАТА (1942–1944)[4]