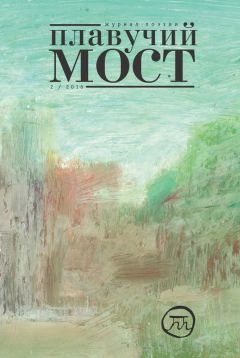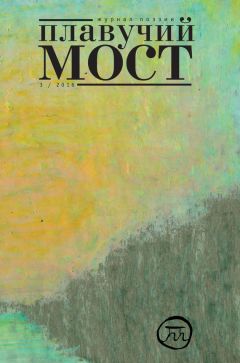Коллектив авторов - Плавучий мост. Журнал поэзии. №1/2016
Сергей Ивкин
Спички для Библии Гутенберга
Ивкин Сергей Валерьевич. Поэт, критик, художник. Родился в 1979 г. Член Союза писателей России. Дипломант Первого Санкт-Петербургского фестиваля им. И.А. Бродского. Шорт-листер Литературной премии им. П.П. Бажова. Один из составителей третьего тома Антологии Современной Уральской поэзии. Живёт и работает в Екатеринбурге.
Послесловие: Геннадий Каневский«В маленькой комнате розовые вытертые обои…»
В маленькой комнате розовые вытертые обои.
Мы занимались любовью там по-собачьи.
Мы не любили, а занимались любовью.
Любят, мне представлялось, как-то иначе.
Просто хотелось любви. Я не знал, что такое.
Я никогда не стоял под балконом с букетом.
Мне представлялось: однажды встречаются двое
и начинается самое долгое лето.
Вечные осень-зима, по весне – обостренье.
Не прикасаешься, а откровенно кусаешь.
Нужно всего-то от счастья упасть на колени,
а не высчитывать возраст, типаж и дизайн.
Эти стихи перепостят, и всё теперь можно
в них написать, как соседу углём на заборе:
вся моя жизнь представляется выспренной ложью,
только стихи отзываются радостной болью.
Шорохи, скрипы, расшатанной этажерки
скорбный скелет в каноническом лунном сиянье.
В маленькой комнате запах раскроется женский
и отрешённую память закрутит инь-янем.
«– А ты долго был с Шер?..»
– А ты долго был с Шер?
– Я не знаю никого с таким именем, кроме певицы.
– Я не о женщине. Шер – это
личная неприкасаемая сущность
четвёртого порядка,
отвечающая за ментальные перестановки.
– Я сейчас перекрещусь, и ты исчезнешь.
– Ничего смешного.
– А я ничего смешного и не сказал.
Любая нечисть из моего дома выметена.
– Шер скорее чисть. Чистящая.
Та, которая забирает себе чужую боль.
Правда, вместе с болью она высасывает и радость.
Ты можешь испытывать вспышки счастья,
но протягивать их разноцветными нитями
через многие дни и недели ты не способен.
Связующая радость испита.
– А что происходит, когда Шер больше нет?
– Живёшь. Просто живёшь. Веришь, что живёшь.
«День начался с того, что в доме кончились спички…»
День начался с того, что в доме кончились спички.
Все шесть зажигалок поочерёдно вынесли курящие друзья.
Холодное молоко с ароматными льдинками
и деревянные мюсли.
Новая дублёнка, подаренный шарф,
ботинки с протектором.
Очень долго я боялся любить себя.
Считал, что так будет закрыта единственная валентность.
Останусь внутри зеркальной бутылки Клейна.
Именно там и оказался:
вечный брат, защитник, душа, жилетка,
любовник-заместитель…
Готовый взять с улицы первую встречную
девочку со спичками:
– Живи, только будь рядом,
если не сможешь греть собой,
поджигай на мне одежду.
Кстати, надо купить спички.
Вот я какой в зеркале!
Тёплая кремовая кепочка.
Выбритое овальное лицо.
Пёстрая лента на плечах.
Меховая оторочка.
Золотистые брюки
с гармошкой понизу.
Всё детство носил короткие штаны.
Странно быть самым высоким в семье.
Глупая обида отпечаталась на всей фамилии.
Ясновидящая мать, зажимающая себя,
чтобы забыть, ничего не знать:
– Чем я провинилась перед Тобой, Господи?
Бабушка в сотый раз перебирающая
альтернативные реальности:
– Почему я живу не с ним? Не с ним…
Отец, вызывающий призраков на дуэль
и стыдливо выходящий
в общий коридор.
Брат, разбивающий машины
одну за другой,
чтобы разрешить себе обоснованный
повод для слёз.
И я – всегда счастливый –
не имеющий права показывать
сопричастность семейному горю,
где у каждого вместо волос – пламя.
Поэт Дмитрий Чернышёв
запаливает сигарету от щелчка пальцев.
А для меня даже спичек нет.
«Потому что сердце – камень…»
Потому что сердце – камень,
потому что паразит,
отвечать на мир стихами –
это всё, что мне грозит.
Обернусь, вздохну и сплюну,
и вернусь к работе, и
буду видеть в жизни юмор,
что ты мне ни говори.
«С тех пор, как ты превратилась…»
С тех пор, как ты превратилась
в большой мыльный пузырь
и прошла многоэтажками,
этот мир стал настолько мелок –
тонкая плёнка поверх асфальта, –
что я обнаружил возле дома
три больших пакета вины,
не донесённых до мусорных баков.
Я не хочу развязывать их
и заглядывать внутрь.
Пробую угадать.
От тебя никакой подсказки:
я же рассказывал только свою давнюю жизнь.
Происходящее параллельно
тебя почти не касалось.
Ну, кто в здравом уме станет
пересказывать любимому человеку новостной канал?
Пакеты совершенно одинаковые.
На равном расстоянии от подъезда.
По очереди набираю номера в телефоне
и прошу прощения.
Нет вины, нет вины, нет…
Записная книжка пуста.
Пакеты стоят. Ждут.
На светофоре
Артёму Путинцеву
Женщины с голыми ногами.
Мужчины с неприкрытыми лицами.
Дети, застегнувшие рты.
Собаки с тремя хвостами.
Нет, эта с двумя. Второй торчит из пасти.
Птицы, пролетающие сквозь стены домов.
Вот, только что видел. Смотри, ещё одна.
И тут на светофоре эта ящерица ко мне поворачивается
и уточняет: К банку мне спускаться по левой
или, всё-таки, по правой стороне!
Вполне себе симпатичная ящерица.
Непонятно, зачем столько лет мы их отстреливали?
Сейчас они поселились на тех же лестничных площадках.
В парадных стало пахнуть лучше.
Люди более церемонны, стеснительны, отводят глаза.
Когда уничтожили Санкт-Петербург,
ящерицы первыми додумались раскрыть социальные сети
и скачать все личные фотографии с видами и
интерьерами города.
Бесконечные ню и соития были бережно вырезаны.
Восстановили восемьдесят процентов жилфонда.
Человек иррационален.
Про женщин с голыми ногами я говорил.
«В пятнадцать лет мне повезло…»
В пятнадцать лет мне повезло.
Меня освидетельствовала психиатр
после пролома черепа в двух местах
и убрала из моей истории
страницу с диагнозом «Сумеречный эффект»:
– В случае чего
можешь сослаться на травму.
Компьютеров в больницах не было,
все документы хранились в единственном экземпляре.
В школе я видел то, чего не видели другие,
и говорил вслух.
Надо мной не смеялись – боялись,
потому что каждое откровение имело последствия:
укушенный красной змеёй ребёнок
подхватывал простуду,
синие пауки приносили нервное истощение.
Затыкаться я не научился.
Однажды застыл посреди улицы Пальмиро Тольятти,
потому что прямо в воздухе зияла дыра,
и там в ней, внутри, с той стороны воздуха
искрила проводка.
В другой раз воздух был исцарапан
огромными когтями,
и я не смог протиснуться между царапинами,
пришлось делать крюк в четыре квартала.
В моём доме в старом кресле
любит спать человек без лица.
В окна (сквозь стекло и антикомариную сетку)
влетают говорящие птицы.
В плафоне в ванной комнате живёт
дальний родственник Оле-Лукойе.
Бреясь по утрам, стараюсь не порезать
в зеркале жабры:
у крови в горле болотный вкус.
Для чего я это рассказываю?
Мне нужно, чтобы вы поверили:
я присутствовал при знаменитой
шахматной партии Тристана Тцара
и Владимира Ильича Ульянова-Ленина
в Цюрихе одна тысяча девятьсот
шестнадцатого года. В январе.
В «Cafe Terasse».
Чехословацкий поэт Любомир Фельдек
неверно описал события.
Не было лозунгов дадаизма.
Не было тихих сентенций.
Не было исторической миссии.
Они не предполагали встретиться снова.
Поэт передвигал чёрные фигуры.
Литератор – белые.
Белые начали и выиграли.
Литература всегда начинает и выигрывает.
А поэзия всё теряет и остаётся.
«В сумерках тело становится цвета бумаги…»
в сумерках тело становится цвета бумаги
библии Гутенберга
чтобы любить тебя
надо отказаться от человека
ждать, а не желать
избранные места
наизусть
Александру Самойлову