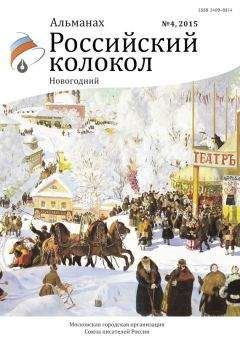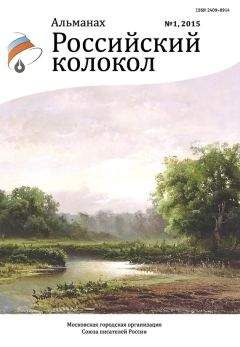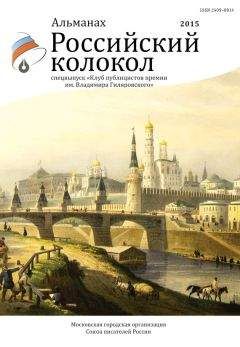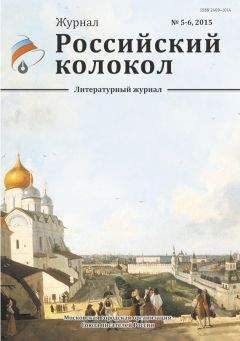Журнал Российский колокол - Российский колокол, 2015 № 7-8
Когда он наконец вышел, трудно было узнать в нем прежнего щёголя, надменного и дерзкого Митьку. Исхудал, виски стали белыми, голова с перебитым носом опустилась на грудь, чёрные глаза потеряли дерзкий блеск и равнодушно смотрели на белый свет. Хотя к нему продолжали наведываться по ночам тёмные люди, сам Митька перестал исчезать по ночам из дома. А вот днём брал палку и, опираясь на неё, уходил в город. Возвращался лишь к вечеру. Только потом до соседей дошло, что тёмный человек Митька как на службу ходит к церкви, раздаёт милостыню нищим и убогим, кои обосновались за церковной оградой. А потом часами сидит на лавочке, отрешённо смотрит в землю и изредка шевелит губами. Но в церкву не заходил ни разу.
Примелькался Митька за церковной оградой. Однажды богомольная старушка подсела к нему и сочувственно сказала:
– Вижу, дитятко, чёрная мука ест тебя. Зайди, дитятко, в церкву, попроси прощения у Бога. Полегчает.
За долгие годы Митька впервые и остро почувствовал человеческое участие к свой судьбе и дрогнувшим голосом тихо ответил:
– Не могу в церкву, мамаша. Туда идут хоть и грешные, но всё – чистые. А я душегуб… убивец я…
Старушка испуганно перекрестилась, встала, собираясь уйти, но что-то удержало её. Подумав, она перекрестила опущенную Митькину голову и сказала:
– Бог милостлив. Замаливай грехи, проси прощения.
Но так и не смог зайти Митька в церковь. Раз, правда, пытался, но споткнулся на каменном крыльце, сел на ступени, и отчаянная мука отразилась на его лице. А месяца через три он освободил землю. Угорел до смерти в своём доме. Хоронили его дружки. Никто не плакал. Лежат теперь Митькины кости в далёкой стороне. Поросла бурьяном могила.
Видать, правду люди говорят, что зло обязательно вернётся к тому, кто его сделал. А не успеет, то к детям или внукам его, но вернётся обязательно. Так, что милые мои, берегите душеньку свою от зла и чёрной зависти, сохраните её такой, какой матушка с батюшкой дали. Тогда и получится жизнь праведная да чистая. И ребятишкам вашим, и внучатам такой достанется.
* * *А в Плечёвке всё шло своим чередом. Не вдруг, знамо, но стал крепнуть местный колхоз. Земли вокруг – сплошной чернозём. Мало-помалу стали привыкать люди к новым порядкам. Даже вкус почувствовали в них. Что ни говори, а важные колхозные дела решались сообща. Каждый свой голос имел. Хотя часто на поверку выходило: как скомандуют из района, так и делали. Но мужики не были бы мужиками, если бы над землёй зачали дуроломничать. С опаской да оглядкой, но делали так, как считали нужным. И в убытке не оказывались.
Сватали в колхоз и братьев Григорьевых. От добра добра не ищут, рассудили они, и решили не пытать судьбу в колхозе. Тяжёлая и ответственная была работа на железной дороге, но за неё платили деньги, а не палочки-трудодни ставили. К тому же путейцев одевать и обувать стали за счёт железной дороги. Каждые полмесяца на разъезде останавливался вагон – развозка, в которой по сносной цене отпускали пропитание и мануфактуру, чтобы обшить семью. Что и говорить, заботился дорожный профсоюз о рабочих, стоял за них горой и власть имел большую.
А к земле Григория тянуло. Может, и вернулся бы к ней. Но тёмная недобрая память осталась у него в душе от коллективизации, когда силком вершили судьбу над единоличником и всех загоняли в колхоз. До сих пор не мог взять в толк и понять, за что вечного труженика, Марусиного деда Фёдора, который один со своей старухой, вытягивая жилы, воспитывал семерых сирот, раскулачили. Отняли лошадь, корову, овец. И свели деда Фёдора с бабкой Матрёной в могилу. А сирот, детей двух сыновей, погибших в Первую мировую войну, безжалостно пустили по миру. Выжили, к счастью, все, но лихушка-то хватили столько – не приведи Господь никому. Да мало ли таких семей было! И вот что горько: не чужаки это творили, а свои же, деревенские. Некоторые совсем совесть теряли. Зайдут в дом – ив первую очередь к печке. Выставят оттуда всё, съедят, а уж потом за сундуки да сусеки принимаются, по сараям да подвалам шастают. И выла обобранная до нитки семья от невесть откуда свалившегося горя. У некоторых, бывало, и взять-то нечего, так скамейки и столы вытаскивали. Терзали деревню, не оставляя живого места… Будь ты хоть ангелом, а время то добрым словом не вспомнишь.
Увёл Григорий семью от этой напасти. Вывела его железная дорога в люди. Другую жизнь познал. А сердце нет-нет да захолонёт тоской. Особливо когда поспевала земля под сев и колыхалось над ней синеватое марево или когда начиналось жнитво и стучали перепела в спелых хлебах…
11Через полгода с небольшим дошёл до Плечёвки слух, что на чужбине угорел до смерти Митька-злодей. По недосмотру или сам закрыл заслонку горящей печи. Неведомо. Дверь в дом не была заперта. В деревне никто не опечалился. Угорел и угорел. Даже единственная дальняя родственница встретила нехорошую весть равнодушно. Никому не сделал он добра.
Бригада путейцев, многие из которой были плечёвские мужики, как раз перекуривала, сидя на штабеле тёплых от весеннего солнца старых шпал. Завели разговор про Митьку. Один из его сверстников, попыхивая козьей ножкой, задумчиво сказал:
– Да-а-а… Думал от себя скрыться… Вона в какую далищу укатил… Но разве с таким грехом от себя спрячешься? Это он Миньку-то – гармониста…
– Если бы только Миньку одного, – поддержал разговор второй. – Он здесь спьяну такое выболтал, что волосы дыбом вставали. Бахвалился, что на заказ, за деньги людей резал. Угорел – туда и дорога. А вот кто-то из наших ему перед отъездом всю голову разбил и нос проломил – это поделом.
Братья Григорьевы переглянулись. Чтобы прекратить дальнейшие разговоры, Григорий скомандовал: «А ну кончай перекур». Он схватил тяжёлый молоток на длинном черене и с кряком, с одного раза вогнал костыль в шпалу по самую шляпку. И махал, вгоняя костыли до тех пор, пока серая выгоревшая на солнце рубаха не потемнела от пота.
Не сказать, чтобы Григорий возрадовался пришедшей издалека вести. Нет. А вот чувство, что свершилось справедливое и неизбежное, всколыхнуло его. К тому же он сильно верил, что успокоится теперь Минькина душа, простит за то, что не остерёг друга в ту страшную ночь. Облегчилось сердце у Григория, будто невидимая тяжесть свалилась с него.
* * *А дальше, милые мои, было вот что. Не прошло и двух месяцев после вести из дальней стороны, как в разгар рабочего дня прибежал на путь запыхавшийся деревенский парнишка и сразу к Григорию:
– Дядь Гринь! Тётя Маруся упала у колодца и не дышит! За тобой послали…
Руки и ноги отнялись у Григория. Лицо, тёмное от загара, вдруг стало серо-белым. Он медленно спустился с насыпи, продрался сквозь колючие заросли лесополосы и что есть мочи побежал полем к деревне. Два километра отмахал на одном дыхании. Забежал в дом. Первое, что увидел, – бледное лицо Маруси с закрытыми глазами. Около неё хлопотала старушка. Сердце у Григория болезненно сжалось.
– Жива? – с надеждой выдохнул он.
Услышав его голос, Маруся открыла глаза, слабо улыбнулась и протянула руку. Он схватил её, крепко прижал к груди, и скупые слёзы потекли по щетинистому лицу. А Маруся приклонила его голову к себе и взволнованно прошептала:
– Гриня! У нас ребёночек будет.
Григорий потерял дар речи. Сколько лет ждали! Сколько надеялись, сколько Марусиных слёз пролито, сколько угрюмой и безысходной тоски таилось в сердце у Григория. Бежал через поле – готовился к беде. А тут! Будто солнце в ночи вспыхнуло. И верить, и не верить запоздалому, но оттого ещё более желанному и великому счастью. У них будет ребятёночек!
Старушка, тоже всплакнув на радостях, подтвердила, глядя на Григория добрым просветлённым взглядом:
– Правда, истинная правда, Гриня. Понесла она. Что голова закружилась да обмерла – у баб такое бывает. Впервой ей, вот и испугалась. Отойдет. Вон, видишь, щёчки-то розоветь стали. Погоди, разрешится – ещё краше станет. А пока береги её. Особливо чижолого не давай подымать.
Счастье к человеку, милые мои, по-разному приходит и по-разному плачет и смеётся от радости. Но, чаю, в тот момент не было людей более светлых, переполненных долгожданным и великим, чем Григорий с Марусей. Крути не крути, а без ребятишек жизнь на месте топчется, не идёт дальше, не звенит, не переливается детскими голосишками. Чего говорить-то: хоть так раскинь, хоть эдак – ради них и живём.
…Маруся гладила жёсткую мозолистую руку мужа и счастливо улыбалась. Лицо её покрылось лёгким румянцем и выражало великое благодарение.
* * *Морозной январской ночью в доме Григория раздался детский плач. Бабка-повитуха вынесла из-за занавески ребёнка и осторожно положила на руки Григорию:
– Смотри, сынок, какого она тебе бутуза выносила. Весь в тятьку!
Несказанная нежность охватила Григория. Будто шире и добрее он стал душой, будто всё в жизни приобрело смысл и значение, будто алая заря выкрасила всё вокруг чистым золотом. И ещё. Он почувствовал, что крепче стоит на земле, что ему хочется сделать много-много добра людям, чтобы они были такими же счастливыми, как он сам.