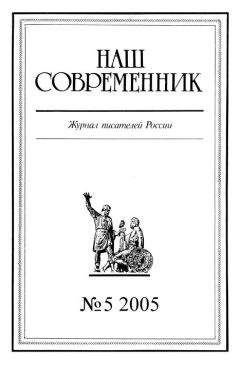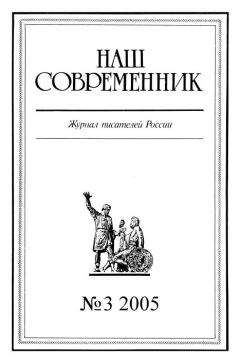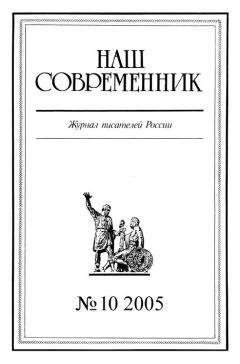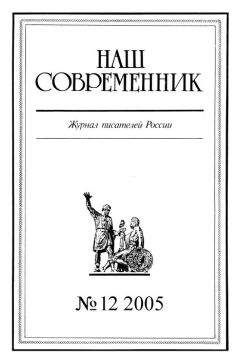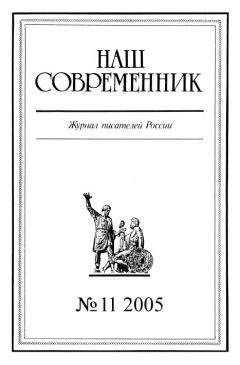Журнал «Наш современник» - Наш Современник, 2005 № 02
А если и это не получится? Ведь на жизнь управы нет: она несёт и несёт, как какой своенравный Енисей или Иртыш. Ну, тогда всё равно: преподносите «Горбунка» детям и внукам с малолетства, пока они лежат ещё поперёк, а не вдоль лавки. Неважно, что они ещё не достигли старшего дошкольного возраста. Тогда они и в университете Ершова вспомнят.
«Север ты наш и восток! Реки вы наши неузкие! Только бы силушки русские не уходили в песок». К этому нас напутствует опыт Ершова; и как не дать доброго напутствия новому чудесному изданию: глоток чистого воздуха, прилив свежих сил.
Среди русских художников
Марина Петрова
Высокая нота Николая Ге
В начале марта 1881 г., когда народовольческий террор привел русское общество к кровавому порогу, обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев писал только что вступившему на престол Александру III: «Вам достается Россия смятенная, расшатанная, сбитая с толку…».
К этому драматическому портрету Василий Розанов, спустя годы, прибавит еще один весьма выразительный штрих. Размышляя о трагических событиях тех дней, он с болью констатировал: «Разве всё общество не чихало, не хихикало, когда эти негодяи с пистолетами, ножами и бомбами гонялись за престарелым Государем?». Речь в данном случае не о монархических пристрастиях Розанова, а о тогдашнем моральном состоянии так называемых просвещенных умов. Недаром самими современниками при всей их разноголосице данный период в истории России характеризуется как «смутное время».
Разраставшиеся метастазы духовного и политического нигилизма все более поглощали живую мысль. Блуждавшая в поисках просветительских идеалов, она споткнулась на перекрестке разумного и действительного и, не найдя опоры, потеряла былое равновесие.
Еще, казалось бы, совсем недавно многие в тогдашней России со всей искренностью присягали на верность идеям свободы, равенства и братства. И вслед за И. С. Тургеневым столь же убежденно могли утверждать, что «истина не может доставить блаженства… Вот правда может: это человеческое, наше, земное дело… Правда и справедливость!». Но реальная правда «материальных явлений жизни» тех лет давала слишком мало повода к «блаженству». А идея всеобщей справедливости все более улетучивалась под натиском обострявшихся противоречий. Ценности буржуазной добродетели стали девальвироваться. А просветительские идеи и упования все явственнее осознаваться как иллюзия, хотя говорить об окончательном разрыве с традицией «просвещения», и особенно в среде интеллигенции, было бы преждевременно…
Тем не менее рубеж 70-х — 80-х годов Россия перешагнула в атмосфере национального подъема. И как это ни странно, а может, как раз поэтому, обнажилась вся глубина и тяжесть общественного недуга, который тот же Победоносцев квалифицировал как «нынешнюю всеобщую распущенность умов и нравов».
И если в предшествующие два десятилетия публицистическая и художественная мысль, подвергая резкой критике общественные явления, заостряла прежде всего социальный аспект, то в 1880-е годы на первый план выходят проблемы нравственности, совести, духовной жизни и совершенствования человека. «Общество начинает исследование, — писал один из современников, — внутреннего, душевного своего строя».
Национальный подъем развивался, можно сказать, под знаком мысли, высказанной еще в 1860-е годы И. С. Аксаковым: «Идеалы русского народа — идеалы нравственные».
Отсюда характерные изменения в тематической направленности искусства, где, наряду с сюжетами из русской истории, все активнее начинает звучать тема Христа.
«Мы все привыкли думать, — писал в 1882 г. Л. Н. Толстой, — что нравственное учение есть самая пошлая и скучная вещь…, а между тем вся жизнь человеческая, со всеми столь сложными и разнообразными, кажущимися независимыми от нравственности деятельностями, — и государственная, и научная, и художественная, и торговая — не имеют другой цели, как большее и большее уяснение, утверждение, упрощение и общедоступность нравственной истины». К тому времени к слову Толстого, как известно, не просто прислушивались. Ему внимало подавляющее большинство русской интеллигенции, для которой «всякое слово» Толстого, писал Стасов, «солнце». И если раньше обращение к евангельским событиям носило в исторической живописи единичный, хотя и программный характер, то теперь именно на них в поисках нравственной истины сосредоточивается внимание художников, занимая в их творчестве положение не менее значимое, чем жанр, портрет и т. д.
Наконец, впервые в русской живописи в искусстве Николая Николаевича Ге тема Евангелия, которое он называл «высшим произведением искусства», получает свое воплощение не в одном, не в двух произведениях, а в целой серии картин. Рожденная на почве индивидуального, то есть субъективного толкования истории земной жизни Христа, религиозная живопись рассматривалась многими, и в первую очередь самим Николаем Ге, как возможность высказать и выразить «свое отношение к Идеалу с точки зрения Христа».
А поскольку именно эта тема прежде всего занимала в 80-е годы и философию, и литературу, и искусство, то именно тогда со всей очевидностью выявилась вся нестройность взглядов, отношений и даже понимания самой сути проблемы и тем более способов ее решения.
Принципиальное размежевание, зашедшее слишком далеко, уже нарушило, в частности, некогда сложившуюся терминологическую систему. Используя те или иные термины, каждая из противоборствующих сторон вкладывала в них свое, вновь обретенное содержание. Даже такое, казалось бы, устойчивое понятие, как вера, можно сказать, разделилось само в себе и наряду с религиозным толкованием обрело не менее устойчивое к тому времени — гуманистическое, предполагавшее веру в торжество разума.
И вот уже И. Е. Репин в одном из писем, датированном апрелем 1884 г., высказывает как само собой разумеющуюся мысль о том, что разум «это и есть святой дух, который нас ведет к чему-то высшему…». Надо полагать, к Абсолютному Разуму.
Придерживающийся прямо противоположной точки зрения В. Васнецов был убежден, что «разум не оправдывает только веру в Бога, но требует Бога». Иными словами, Васнецов, в отличие от Репина, не отождествляет разум ни с Богом, ни тем более со Святым Духом, то есть не заземляет их.
При такой мировоззренческой поляризации даже сам нравственный идеал, как выяснилось, оказался лишенным в общественном сознании единой основы. Для одних он обретал исключительно христианский смысл и только в таком качестве признавался ими. Для других, напротив, мог существовать и «помимо идей о Христе и о Боге», поскольку человек, утверждал, например, Стасов в письме к Толстому, «сам способен поставить самому себе все эти законы и цели из самого себя» <…> «без „высших“, фантастических, выдуманных существ». Поэтому, чтобы стать хорошим и настоящим человеком, полагал Стасов, вполне достаточно собственных представлений о добре и зле.
Мысль сама по себе далеко не нова. Еще в 1734 г. в своем «Метафизическом трактате» Вольтер выражал «всяческое сожаление» тем, «кто нуждается в поддержке религии для того, чтобы быть порядочными людьми». «Надо быть изгоями общества, — настаивал он, — чтобы не находить в самих себе чувств, необходимых для этого общества, и быть вынужденными заимствовать извне то, что должно быть присуще нам по природе».
Сто сорок лет спустя И. Крамской, руководствуясь подобной же логикой, привел Христа в конце концов даже к атеизму. Крамской исходил из того, что «он (Христос. — М. П.) перенес центр божества извне в самое средоточие человеческого духа, кроме того, доказав возможность человеческого счастья через усилие каждой личности над собою». Но если еще в 1873 г., когда родилась эта мысль, Крамской рассматривает собственное «Я» человека как «самого сильного врага», победа над которым, благодаря Христу, делает «невозможным оправдание в наших подлостях никакими мотивами, то годом позже он в сущности ставит знак равенства между Христом и атеистом. На вопрос, кто же такой настоящий атеист, сам себе отвечает: „Это человек, черпающий силу только в самом себе“».
«Если Христос Иисус только лучший, умнейший, возвышеннейший человек, — как бы полемизируя с мэтром, возражал В. М. Васнецов, — то нравственное его учение теряет силу обязательности».
Как видим, проблема соотношения божественного и земного в образе Спасителя стояла тогда особенно остро, заполняя и определяя собой духовную жизнь русского общества, его метания в поисках истины.
Мировоззренческая поляризация породила и разночтения в понимании красоты и, как следствие, назначения искусства. Везде: и в центре, и в провинции, писал, например, Сергей Иванов, «идет такая же разладица и такая же сумятица в художественном творчестве; общество и выставки, — считал он, — тут ни при чем, и одиночество не играет роли, время такое».