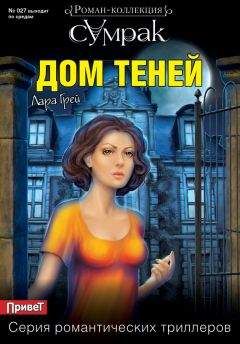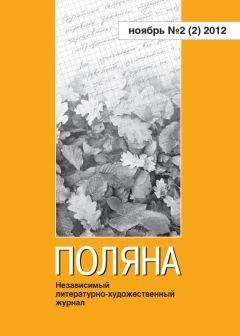Журнал Поляна - Поляна, 2012 № 01 (1), август
Стояла самая прекрасная пора раннего лета. Я расположился в маленькой комнате у раскрытого окна, выходящего в небольшой палисадник, и освежал в памяти когда-то уже затверженное.
Лето показывало характер и даже черты некоторой зрелости. Это было неожиданно для раннего июня. Но с тем, чтобы помыться, не было проблем. Ведь мама жила в пяти минутах ходьбы. Я выдержал еще дня два, так как частые визиты в родительский дом жена считала моими маленькими изменами, и все-таки пошел.
— Ты вовремя, — сказала мама, — хотела в магазин выйти. Вот тебе майка и трусы, и обязательно дождись меня. Вид у нее был несколько встревоженный, но природу этой тревоги я понял только потом. — Хочу кабачков нажарить и утку потушить, — сказала мама, — дождешься?
— Еще бы. Только скорей возвращайся. Я уже предчувствую утку.
Если кто помнит это молодое счастье просто стоять под душем и поливать, поливать себя водой, тот должен меня понять. Я намыливался и обмывался, и снова намыливался, и пел, пел, пел. Вдруг стук в дверь и голос брата, от которого я вздрогнул, так как представлял его за много тысяч километров отсюда, в Сибири. Я прикрутил воду:
— Поешь? Помехи гонишь?
— Что ты имеешь в виду?
— Да все проще, чем ты думаешь, парень.
— Проще?
— Ну да. Берешься одной рукой за кран холодной воды, а другой — прикасаешься к стенке, но выше кафеля. Поскольку кафель — изолятор.
Я повторил за ним:
— …поскольку кафель — изолятор. И дальше?…
— Все, старик. Считай, у них все трансформаторы сгорели. Короткое замыкание! — и засмеялся каким-то невеселым, старческим смехом.
Обернувшись банным полотенцем, я вышел из ванной.
— Что ты так смотришь, как будто сумасшедшего увидел? — спросил брат. — Ты думаешь, если летом в зимней шапке, то того? Ну да, зимняя шапка. Мех-то синтетический, хорошо экранирует от считывания мыслей, — сказал брат и скрылся в своей светлой комнате, плотно прикрыв за собой дверь. И это было нелепо. Обычно все двери у нас нараспашку.
Вернулась мама. Какая-то растрепанная, с беломориной во рту. И это было нелепо. Сколько себя помню, мама свое курение скрывала. Я отвел ее в сторонку и немного порассказал о том, что услышал от брата.
— Вот еще, дворянские обмороки, — стандартно отреагировала мама. — Какие мы нежные.
Потом она достала из сумки чекушку и, не таясь, налила себе полстакана.
— Иди, сынок, к Наташе и сыну. Ты там нужен. А здесь не на что смотреть, здесь — горе.
— Но послушай, мам!
— Мам, мам. Что я вам, железная? Я еще представляю себе, как бороться с угрозой туберкулеза… А с этим, не знаю… Часа через два зайди за уткой.
Антонина Спиридонова
(Из цикла «Я знаю, будут дни мои легки…»)
Ах, берёзонька, девичья рука
Ах, берёзонька, девичья рука,
Белая кора — раны чёрные,
Колыхаешь ты моего сынка
Во чужой земле, некрещёного…
Как по льду иду —
тонкий лёд трещит…
Стынет на столе тело млелое…
Не кричит дитя и душа молчит.
Много лет молчит, что ни делаю.
Но придёт пора,
выгорит кора,
Пропадут слова не прощённые.
Ах, берёзонька, я твоя сестра;
Кожа белая — думы чёрные.
Эй, серебряный кувшин в небесах высоко
Эй, серебряный кувшин в небесах высоко,
Интересно, каким ты наполнен соком?
Наклонился кувшин золотой каёмкой,
Тонкой струйкой молока пролилась позёмка…
Ольга Воронина
Сама себе и автор, и сюжет
Сама себе и автор, и сюжет,
и линия трассирует пунктиром,
отстаивая время на мечту.
А где-то среди зыбких миражей,
устроившись на зимние квартиры,
друзья мои ни строчки не прочтут.
В тепле и неге им не до того:
не сладко пить из кубка моего.
До осени уже рукой подать,
стрекозы призадумались и сникли —
им бить челом суровым муравьям.
И закрывает летнюю тетрадь
до будущей, отсроченной, попытки
уставший автор — но уже не я.
А все мечты — я знаю наперёд —
насмешливый редактор уберёт.
Успеем ли дожить — и домечтать? —
Финал открыт до самых многоточий.
И падает испуганный листочек,
осиротев, —
и учится летать.
Михаил Садовский
Штык
Моему отцу Рафаилу Садовскому
Отец о войне не рассказывал. Кому? Да и зачем?.. Даже те, кто пешком под стол ходят — все из нее… Незачем. Забот хватало. А время бежало незаметно. Кто мог — забыл. Кто не мог — помнил, да все равно помалкивал… Такому, что не забывается, и не поверят…
Недалеко ушла она… даже по мерке одной жизни… война, и новые мальчишки в нее играют…
— Дед, ты почему мне про войну никогда не рассказываешь?
— Про какую?
— Как это, про какую? Ты воевал?
— Воевал…
— Ну, вот про ту, какую воевал…
— Я не одну войну свалил… знаешь, не одну…
— Во дает!., ну, про какую хочешь, какая лучше…
— Самая хорошая война, — знаешь какая?
— Нет…
— Которая кончилась…
Внук еще говорил что-то… но он не слышал… Как ни далеко было до той, которая кончилась, а перелетал он туда быстро и оставался там надолго… Раньше времени, может, не было… а уставал за день так, что и память редко пробиралась в его плотный и тяжелый сон… а теперь все не по-солдатски: от шума пробуждался, а потом засыпал долго и трудно… или крутился до серых окон, когда есть оправдание встать…
Тогда он перебирался на любимую кушетку, и сегодня, окружающее его, естественно и легко соединялось с тем дальним вчера, что приходило к нему в полудреме… и он не мог отличить, где граница…
— Ты чего орешь? — опять просачивалось в его правое ухо… и он сипел сдавленной грудью:
— Может, услышат…
— …..я…
— Может, и так… Иван, рукой пошевелить можешь?
— Нет… — донеслось после долгой паузы, — не могу… даже пальцем…
— И я…
— Вот… какая………ина, понимаешь, вышла…
— Висок в затвор упирается… Иван… Иван… не молчи…
— Тяжело… Ты умеешь молиться? Соломон… Соломон, что молчишь?..
— Умею…
— Давай…
— Ты все равно не поймешь…
— Не пойму?.. А мне зачем?.. Лишь бы он понял… попроси у него, чтобы заметили нас… чтобы вытащили……на все воля божья…
— Не надо… Это же он и сделал, раз на все воля его…
— Соломон, ты что до войны делал?
— Учил детей…
— Смотри! Не довелось спросить… И ты? Похож… на учителя…
— А ты?
— Русскому языку, с пятого по десятый…
— Вот откуда ты русский так знаешь… обороты разные… А я математике учил, с восьмого по десятый…
— А откуда молиться умеешь…
— В хедере учили… дышать больше нечем… все…
— Не молчи… задохнешься… Ты винтовку боднуть можешь…
— Нет.
— Соломон… Соломон…
— Перестань орать… сейчас ночь…. не надо людей беспокоить…
— Не могу… обидно… — слова Ивана скукожились, как листья.
— Порадуйся за старшину Суслова — ему дешево обойдутся наши похороны… даже могилу копать не надо…
— Перестань! Читай, если знаешь, читай пока не позд… — он поперхнулся словами и затих.
— Борух ато а-дей-ной э-лэй-хэйну мэлэх хоэйлом ашер кидшону бмиц-вейсов вцивону лэхадлик нейр шэл шабос кэйдэш…[1] — голос Соломона еле пробивался к товарищу через полметра грунта, разделявшие их.
— Молись, молись, — повторял Иван вслед непонятным словам товарища.
Они не знали, что их откопали… не знали, кто это сделал, и почему… То ли в тот момент, когда солдат наступил на клочок земли, под которым покоилась голова Соломона, он услышал молитву, чуть укоротил шаг из-за этого и зацепился за штык его винтовки, торчавший прямо вверх, как преддверие будущего обелиска, то ли Б-г услышал подземную молитву и натолкнул сапог солдата на этот штык… Да и то, будь за его плечами винтовка, не стал бы он откапывать эту, а вот поди ты… Что толкнуло его, голодного и злого, еще больше обозлиться и воткнуть лопатку рядом со штыком в склон оврага, и начать отбрасывать рыхлую, мокрую, податливую землю?..
Оба его «трофея» лежали, вытянутые в струнку… У одного винтовка, у другого под животом, полбуханки черного хлеба в холщовой тряпице… Оба были теплые еще и вроде бы еле дышали ртами, полными земли, когда их перевернули на спину…