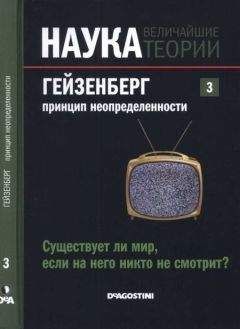Журнал «Полдень XXI век» - Полдень XXI век, 2011, № 02
Еще: сидел рядом с вами какой-то неприятный тип. Тонкогубый, тонкошеий, с выпуклыми холодными глазами. Кисти рук у него были узкие, а пальцы тонкие. Художественные. Синеватые такие, словно вымоченные в ледяной воде. Не понравилось мне, как он вас за плечо держал — вроде бы легонько так птичью свою лапку положил, а на самом деле впился — ногтей не видно. Я чуть под колеса из-за него не бросился, только тут уже не успел.
Вот. А теперь можете не верить.
К «Боингу» тем временем подрулил автозаправщик, и мы, понятно, стали расходиться. Ждать было уже нечего. Прокатился слух, что гуманитарную помощь доставят на следующей неделе. Теперь уже точно. Во вторник или в среду. Даже какой-то праздничный у них там намечался набор. Кукурузная мука, яичный порошок, шоколад. Но мне было все равно.
Я был, наверное, невменяем в эти минуты.
Пехотинцы пялились нам вслед. Лейтенант дымил сигаретиной. Лицо у него почему-то было по-детски обиженное. Пострелять мы ему, что ли, не дали?
Рауль с Хосе меня по бокам придерживали, а Рубен Тамарго еще и за шею сзади цеплялся. Направляли меня втроем, разворачивали где надо. Хорошо, в плотной толпе мои выкрутасы — по прямой мне идти совершенно не хотелось — не так заметны были. А потом, когда все в рыжих пятнах потянулось болото имени Сантьяго Басты, где-то здесь же и утонувшего, мы, слава Богу, уже порядочно от всех отстали.
Конечно, опять же из-за меня.
Сначала мне взбрело в голову вернуться. Я смутно помню, зачем. Может, чтобы набить лейтенанту морду. Может, чтобы выпросить на время армейский внедорожник. Но по пути энтузиазм мой иссяк. Нелегко, знаете, испытывать воодушевление, когда на тебе висят. А еще — лягаются. А еще — откручивают ухо. А еще — пучат глаза и тянут назад.
Поэтому я быстро устал и сел. Вернее, мы сели. Причем Тамарго сел мне на ногу и еще секунд пять делал вид, что это у него в порядке вещей.
И вот мы сидим и дышим.
Дырчатая серая пена течет с севера на юг над нашими головами. На аэродроме включили радио. Урывками долетает музыка. Что-то военное, бравурное, со множеством духовых.
Рауль поворачивается ко мне и спрашивает, куда это я вдруг намылился. Лицо у него усеяно капельками пота. Волосы на лбу слиплись. Грудь ходит ходуном.
Я заверяю его, что уже никуда. Рауль, помедлив, осторожно кивает. Мы сходимся на том, что не стоит поддаваться спонтанным порывам.
Я и сам понимаю, что мчаться за вами, Элизабет, — это было глупое желание. Вы обещали мне вернуться — и вы вернулись. Значит, вы сами меня найдете, когда сочтете нужным. Просто…
Ох, знаете, когда вы улетали от нас, несмотря на запрет, я все-таки пришел вас проводить. Не мог по-другому. Метрах в пятидесяти от «колючки», опоясывающей ангары и узкую посадочную полосу, есть холмики. Небольшие. Там я и спрятался.
До последнего момента верил, что вы передумаете и останетесь. А еще мне казалось, что какой-то несерьезный у вас самолетик. Одномоторный. Легкий. Почти игрушечный. Даже когда он, подпрыгивая, побежал по бетонке, я был уверен, что ему не подняться в воздух.
Но он поднялся. Вместе с вами.
Перед тем как превратиться в точку и раствориться вдали, он сделал широкий круг над болотами. Словно прощаясь.
Я сказал: «До свидания, Элизабет!», и тут ваш самолетик качнул крыльями и мигнул огнями. И я заплакал. Конечно, не дело мужчины пускать слезу, но я не смог удержаться. Мне казалось, с вами навсегда улетает тонкая часть меня, та, что здесь, на болотах, зовется «оло» — душа. Так получилось, что я отдал ее вам. Так получилось, но теперь вы рядом, и мне легче…
Ну что, говорит мне потом Рауль, пойдем в деревню?
Я соглашаюсь. Я решаю, что в деревне меня легче найти, кого ни спросишь, каждый покажет, где живет семья Лобос. Если со стороны газопровода смотреть, то наша хибара третья. А по бокам от нее — Сагранья, Вальдесы и Отонотоми, если вы забыли.
Рубен, конечно, меня страхует, не верит, что я всерьез очухался, сопит напряженно за спиной. А вокруг болота цветут. Гнус вьется.
Знаете, Элизабет, наши болота только сначала кажутся жутким, богом забытым местом. Какой-нибудь недалекий европеец их красоты не поймет, сморщится от душной вони, а то и отвернется поскорей, а там и в Темиле поскачет, к отелям, к океанскому бризу поближе. Еще и трясучку нашу знаменитую вспомнит.
А вот я, Рауль, Хосе и Рубен идем и любуемся.
Вон мраморник зацвел, от него вода черная становится, с белыми прожилками, в два счета обмануться можно. Вон остролист рыжеет. Вон пузырится зыбун, по краям травка нежная, чуть светлее, чем в центре. Кустики кислицы, где потверже, трепещут мелким листом. Змейка нырнула. Жаба на кочке щеки раздувает.
А уж воздух ходит!
Он у нас на болотах разогретый, цветной. Где-то желтое марево стоит, где-то прозрачно-синее. Еще серое есть, мутное. И зеленое. Иногда будто в увеличительное стекло смотришь — дальние промоины вдруг рывком приближаются, и до мелкого жука-плавунца все разобрать можно. Правда, эффект долго не держится, пропадает.
Мы, наверное, полпути прошли, когда ваш траспортник, поднимаясь, взвыл на всю округу. Оу-воу-ву! Садился тише, ей-богу.
Дернуло меня, чуть не развернуло, но я сдержался.
Вспомнилось мне вдруг, как впервые вас увидел. Помните, Элизабет? Год, четыре месяца и семнадцать дней назад, осень, неурожай…
Мы с Хосе сидели на земле перед домом, тощие, желтокожие, желтоглазые, только-только от трясучки отошли, волосы — колтуном, плечи ходят, зубы стучат. Вот бы Алексу Стенсфилду увидеть! После трясучки дня два-три ты похож на бревно. Только что двурукое да двуногое. А в голове — звон, ни одной мысли. Сидишь, значит, и пустоту взглядом щупаешь. Натуральный этот, мертвец оживший из ваших фильмов.
Сестра Хосе, Альса, перед нами в костерок кислицы накрошила. Считается, что от нее быстрее в себя приходишь. Если обкуренный.
У Сагранья, помню, куры еще были, квохтали, как одурелые, в своем загончике. Через месяц, правда, передохли все. Солнце пекло. Старик Маноло качался под навесом в скрипучем кресле. Детишки стайкой бегали из одного конца деревенского в другой, в «прокати» играли. Хосе мне лбом в плечо уперся и заснул. У меня тоже глаза слипались, и я то проваливался в темноту, то вновь оказывался в кисличной дымке с канавой по правую руку и курами по левую.
А один раз разомкнул веки — прямо передо мной фургон стоит: колеса большие, повышенной проходимости, крест на борту красный намалеван, стекла мутные, сзади лесенка откинута. И вы по ней. То ли спустились, то ли слетели.
Как ангел.
На вас был белый с синим комбинезон, застегнутый под горло. Вокруг тут же дети заскакали, выпрашивая еду. Альса что-то возмущенное крикнула. Куры эти…
А вы подошли ко мне, ладошкой подбородок подняли, волосы с глаз второй ладошкой убрали. «Как тебя зовут?», — спросили. Говор у вас был смешной. Чистый очень. Видимо, учили где-то у себя по книжкам. Мы все больше окончания глотаем. «Ин на хоста?» звучит у нас как «Ин на хос?». А на Рио-Нуво и вовсе как «Ин а хо?»
Но я все рано ответил. Улыбнулся и ответил: «Мигель, сеньора ангел». Потому что как это, не ответить ангелу?
«Очень приятно, Мигель, — сказали вы. — Меня зовут Элизабет. Элизабет Кавендиш. Я — врач».
Потом Хосе проснулся, и вы ему руку подали: «Элизабет». Только он не понял ничего, замотал головой. «Мигель, — снова обернулись вы ко мне, — я могу вылечить тебя и твоего друга от лихорадки. Ты хочешь вылечиться?». И я сразу захотел. Тогда вы укололи мне палец, а затем выступившую каплю крови ловко всосали каким-то приборчиком.
Может быть, тогда вы мою «оло» украли?
Хотя, конечно, что я такое мелю! Вы не думайте, это я от радости совсем дурной…
Вот увидел вас вчера, и что-то словно просыпается во мне, вспоминается вроде напрочь уже забытое, за письмо вот сел. В пятницу одноглазый (Энрико, то есть) едет в Чейясу, там есть почтовое отделение, так я с ним и пошлю, чтобы он отправил. Адрес я с визитки вашей списал. Кабела, Каро-Гранде, Институт биотехнологических исследований и медицины. Это где-то к северу от нас, а точнее не знаю. На конверте я вывел печатными буквами: «Элизабет Кавендиш лично в руки». Так что, думаю, дойдет.
Тут мне вчера приснилось, будто в больнице лежу, а вы надо мной склонились и ласково так говорите: «Все будет хорошо, Мигель. Потерпи». А может, это и не сон был. Я теперь, наверное, многое вспомню. Так мне кажется.
А вернулись мы в деревню нормально. Что мне теперь делать — только ждать. Ваш Мигель.
Письмо второе
Здравствуйте, Элизабет.
Прошла уже неделя, а от вас нет никаких вестей. Нетерпение заставляет меня кусать пальцы. Где вы, Элизабет?
Я не верю, что вы меня забыли. Я помню, вы называли меня «уникальным Мигелем». Наверное, это не просто так. Видимо, вас держит ваша работа.