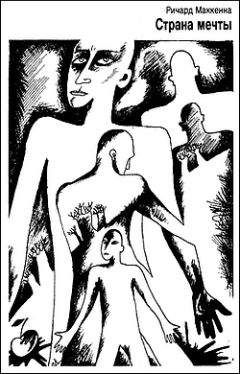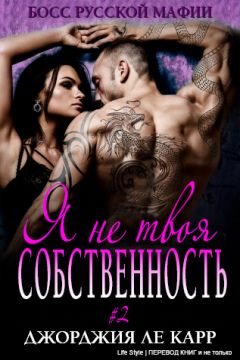Ганс Галь - Брамс. Вагнер. Верди
Единственное произведение Вагнера, которому нельзя сделать такой комплимент — или же, рассуждая по-вагнеровски, которому нельзя предъявить такой упрек, — это «Тристан и Изольда». В этом сочинении художник наиболее последовательно шел за теоретиком, и, если только не обращать внимания на неискоренимые мелодраматические предпосылки произведения, Вагнер-драматург вполне удовлетворил здесь самым строгим требованиям классической драмы. Вагнер из сказания заимствовал лишь одно — мотив рокового любовного напитка и образ волшебницы Изольды, которая является слишком поздно, чтобы спасти смертельно больного Тристана. Все остальное принадлежит Вагнеру. Ярко образные мотивы сказания Вагнер скрестил с построениями мысли в духе Шопенгауэра, хорошо ему тогда известного, но в итоге он вложил в произведение слишком много абстрактной рефлексии — сказочный сюжет не выдержал такого бремени. Это повсеместно приводит к чрезмерной широте. Такова бесконечная экспозиция первого действия — тут необходимо мотивировать отчаяние, овладевшее Изольдой, приводящее ее на грань самоубийства вместе с Тристаном. Во втором действии бесконечными разъяснениями надо оправдать все нелепое, что было и осталось в поведении Тристана. В третьем действии жестокие в отношении к самому себе монологи больного Тристана должны проиллюстрировать бесконечное ожидание опаздывающей Изольды («…это ведь так быстро не бывает!»). Если это изъяны, то вместе с тем и непременные своеобразные особенности произведения, которое в том виде, в каком оно существует, представляется выдающимся шедевром. Осторожные купюры в первой половине любовной сцены и в третьем действии, предложенные самим Вагнером, могут лишь яснее выявить совершенство целого. Однако от этого не исчезает проблематичность вещи: порожденная экзальтированным чувством, она пребывает в сфере экстаза, не всегда доступной здоровому чувству. Тристан и Изольда ходят на котурнах, их чувства превышают обычные человеческие, предельное напряжение, для которого отождествляются жизнь и смерть, пронизывает целое произведение. Даже песня матроса за сценой в начале первого действия звучит ирреально (с хроматическими смещениями!) — и это тоже фрагмент иного мира, сотворенного фантазией мира не по-земному напряженных, сверх меры натянутых чувств. Вагнер это понял! «Боюсь, мою оперу запретят, — писал он Матильде Везендонк, — если только скверное исполнение не превратит ее в пародию. Итак, только посредственное исполнение может меня спасти! А исполнение совершенное сведет людей с ума — иначе я себе этого не представляю».
Уже «Лоэнгрин» смутил ум молодого короля Людвига; «Тристан» же смутил целое поколение! Кстати говоря, из всех фантастических капризов Вагнера самый странный — это его шопенгауэровская поза. Наиболее послушный своей воле из всех когда-либо живших на земле людей, Вагнер заговорил о преодолении воли, об отречении! Однако Вагнер веровал и творил. Судя по дневникам, которые Вагнер писал в Венеции для Матильды Везендонк, его фантазия завела его очень далеко — он с головой ушел в тристановские настроения: «Итак, ты посвятила себя смерти, чтобы даровать мне жизнь, и я принял в дар твою жизнь, чтобы вместе с тобой расстаться с миром, чтобы страдать с тобой, чтобы умереть с тобой!» Непостижима способность Вагнера-художника переносить весь жар своей фантазии в творчество — не расплескав, не остудив его по дороге! Трудно даже судить о вагнеровском «Тристане» — трудно потому, что, собственно говоря, надо или любить, или ненавидеть его, или любить и ненавидеть сразу. Корнелиус прямо-таки боялся «Тристана». Он писал своей невесте: «Андер в Вене учил эту партию и уже почти твердо ее знал. Поэтому для Вагнера тяжелейший удар, что Андер умер в безумии, а Шнорр, исполнивший ее, — от тифа. Не должно ли это событие послужить, словно пограничный столб, предостережением: не надо натягивать сверх меры лук, выпуская стрелу энтузиазма в самое сердце слушателя; предостережением: не надо вступать в сферу такого искусства, беспощадного, дергающего и взвинчивающего все нервы и фибры души?» Кто равнодушен к этому произведению, тот страдает от недостатка фантазии. А для оценки этого произведения важны такие критерии — колоссальный факт существования стиля, отмеченного самым дерзновенным своеобразием, и раскрытие мелодических и гармонических тайн, какие до Вагнера никому и не снились.
Если даже и не предаваться полностью воздействию «Тристана», в общем впечатлении все равно должны отложиться два эпизода, по потрясающей напряженности отразившегося в них переживания, не имеющие параллелей в искусстве. Оба эпизода связаны с умирающим Тристаном. До какой же степени Вагнер внутренне слился с его страданиями! Тристан, мучимый жаром, вслушивается в «печальный наигрыш» пастуха — тот переходит в оркестр и, видоизменяясь, продолжает звучать. И вот Тристану на этом фоне, на этом cantusfirmus гложущей сердце, мучительной, несказанно жуткой мелодии, представляется вся его жизнь. Трудно сказать, музыка ли это еще — это передаваемое средствами музыки выражение больной души! Второй эпизод наступает позднее: приходя в себя после обморока, больной Тристан думает, что видит корабль с Изольдой на борту. Четыре валторны исполняют здесь парафраз лирической мелодии из любовной сцены второго действия; спокойная и проникновенная, она постепенно достигает вершин ликования, и пение Тристана поднимается вместе с нею к лирической кульминации — «Изольда! Как ты прекрасна!». Наконец на самой точке кипения раздается веселый наигрыш пастуха, который увидел приближающийся корабль Изольды, — это прекрасная музыка, и едва ли можно говорить об исключительно музыкальном воздействии такой сцены. Вот где истинная драма — в единстве действия, звучащего выражения и нашей собственной взволнованности, передающей нам художественное переживание подобной степени интенсивности.
Стоит ли указывать на те средства, которыми маг и волшебник Вагнер достигал подобного воздействия на слушателей. Интересующийся этой проблемой музыкант должен будет заняться тайной побочных доминант, благодаря гармоническому освоению которых все интервалы полутоновой гаммы приведены в диатонически-тональную взаимосвязь. Однако о вагнеровской гармонии, и особенно о гармонии «Тристана», написано немало неразумного, и не будет излишним указать на то обстоятельство, что Вагнер действительно постиг самые тонкие возможности тональности, подчинив их своим потребностям в выражении, но что он ни на йоту не отошел от тональности с ее полем притяжения. У Вагнера даже бывает и так, что, как во всех операх Моцарта, а также в «Волшебном стрелке», «Эврианте» и «Обероне» Вебера, целое сценическое произведение написано в своей особой тональности, которая, словно дуга, соединяющая начало и конец, творит в произведении единство, которое мы ясно слышим. В «Лоэнгрине» это ля мажор, в «Мейстерзингерах», в «Парсифале» — ля-бемоль мажор. Вагнеровский ответ на вопрос о тональности вступления к «Тристану», на вопрос, далеко не всем ясный, недвусмысленно дан уже тем, что для концертного исполнения вступления Вагнер приписал к нему завершение, приводящее к ля мажору, — это необходимо вытекает из того, что вступление коренится в тональности «ля», в тональности, которая, однако, становится у Вагнера символом вечного томления: гармоническое развитие все время приближается к тонике «ля», но никогда не достигает ее.
Гармоническое мышление Вагнера — это особенный феномен. Чтобы подыскать пример столь же уверенного обращения с тональностью, необходимо обратиться к решительному антиподу Вагнера, к Брамсу, у которого никто еще не находил склонности к атональности. В соль-минорной рапсодии Брамса (Ор. 79, № 2) нужно дойти до самой середины разработки этой большой, написанной в сонатной форме пьесы и пересечь эту середину, чтобы утвердилась тональность пьесы. А последняя из пьес Ор. 76, до-мажорное каприччио, с самого начала недвусмысленно вращается вокруг своего тонального центра, но утверждает его лишь своим последним аккордом. Бессмысленно выводить из «Тристана» необходимость атональной музыки: ведь «Тристан» это самый последовательный итог тонального стиля. Безошибочно ориентируясь, Вагнер шел по трудному пути, и нельзя возлагать на него ответственность за то, что люди, шедшие вслед за ним, заблудились. Правда, Вагнер-композитор вдохновлялся драмой, его музыкальное мышление определено поэтическим текстом, однако тенденции выразительности, тенденции звукописи не способны были нарушить его чувства целостности, внутренней взаимосвязи музыкального произведения. Ни в одной вагнеровской партитуре нет ни одной ноты, которая не была бы однозначно определена с музыкальной стороны. Теория Вагнера — но не его музыка! — правда, повинна в том, что в истории музыки наступил период величайшего хаоса, что целое поколение музыкантов было выбито из равновесия и что многие — в гармоническом отношении — начали жить не по средствам. Хотя рок и на этом не остановился, и все мы присутствуем при бунте огромного большинства людей против музыки, при восстании против нее немузыкальных людей всех стран. Вот что повернулось за это время на 180 градусов — общественное мнение! В эпоху «Тристана» Ганслики ворчали, а публика толпами бежала за Вагнером, как дети за крысоловом из Гамельна. Теперь наоборот: публика не желает слушать новую музыку, а критики восторгаются, потому что пример Ганслика научил их предусмотрительности. И только одного они не поняли — и для предусмотрительности нужен разум.