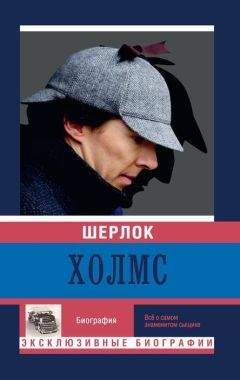Надежда Чернецкая - Я, Шерлок Холмс, и мой грандиозный провал
Размышления о произошедших во мне переменах теперь занимали меня и днем и ночью. Я бродил по парку, будучи не в силах спокойно спать, а потом возвращался в свою комнату и впадал в тяжелый, беспокойный сон, не приносивший успокоения. Я выходил в парк по утрам, когда солнце только вставало, и подолгу сидел где-нибудь в тени. Однако, к моему удивлению, я совсем не чувствовал себя усталым. Напротив, меня переполняло новое чувство, и от этого все вокруг казалось иным, более живым и ярким. Мое восприятие обострилось, и иногда я ловил себя на том, что иногда занят не размышлениями, а тем, что просто наслаждаюсь необыкновенным приливом сил, идущих изнутри и наполняющих каждую частицу души и тела теплом и энергией.
Я почти принял свою любовь и смирился с ней как с новым опытом, новым жизненным уроком. Я понял, что был слишком самоуверен в отношении собственной неуязвимости и слишком ограничен в объяснениях своих чувств.
Мое относительное спокойствие и не изменившая мне и теперь выдержка позволили оценить силу моего чувства. Я пришел к неутешительному выводу о том, что безнадежен. Я всегда очень живо ощущал жизнь и по опыту знал — то, что хотя бы единожды задело меня, навсегда становилось предметом самых глубоких чувств, а я уже потерял счет тому, сколько раз мисс Лайджест задела мою душу, сердце и разум. Я отчетливо понял, что моя любовь явилась плодом именно моего скепсиса и моей мнимой холодности, что она прорвала завесу моих заблуждений относительно меня самого и от этого стала еще более сильной. И потому это была не мальчишеская влюбленность, а настоящая страсть, посланная мне Богом в наказание за строптивость и гордыню.
Я лежал на диване и курил, когда вдруг понял, что двигаю пальцами в такт доносящейся откуда-то издалека музыке. Кто-то играл на рояле в глубине дома, и я не сомневался, кто именно. Я встал, надел пиджак и вышел в коридор — звуки стали отчетливее. Полагаясь только на собственный слух, я пошел в дальнюю часть дома, где никогда прежде не был. Звучала одна из знаменитых бетховенских сонат. Даже не зная о том, что, кроме мисс Лайджест, в доме играть некому, теперь не пришлось бы сомневаться, что это она: через клавиши инструменты вырывались легкость, глубина и изящество, присущие только ей одной.
Я остановился у самой дальней двери коридора и прислушался: звуки музыки действительно доносились отсюда. Я приоткрыл дверь и тихо вошел в комнату.
Это был небольшой овальный зал, сильно затененный из-за густых деревьев за окнами и почти лишенный мебели: у входа стояли два стула, немного дальше — кресло и черный рояль с поднятой крышкой. За этим роялем спиной ко мне сидела мисс Лайджест — воплощение бетховенской страсти… Рукава платья закатаны до локтей, пряди темных волос разметались по плечам, а все ее тело, казалось, было частью огромного инструмента: она не видела и не слышала ничего, кроме музыки, которую сама творила.
Я сел на стул, скинув с него пыльный чехол, и продолжал внимать прекрасной мелодии.
Последний штрих, аккорд — и новый отрывок зазвучал стремительно и вдохновенно. Бурные восходящие пассажи, исполненные безукоризненно, перешли в волнительную мелодию, полную трепетной тревоги. Потом опять дикая безудержная страсть и опять смирение. Гениально и просто! Просто и прекрасно, как жизнь, как любовь! Настроения менялись, перемешивались, перемежались, опять вставали на свои места, взрывы сменялись покоем, но и он летел куда-то, превращаясь в призыв, в мечту и в страсть, страсть… Все так или иначе сходилось в одну точку, и она, обрастая мириадами аккордов, перерастала в прекрасную, неудержимую стихию, настойчиво и просто заявлявшую о своей непобедимости.
Я любовался тонкими белыми запястьями, длинными сильными пальцами, властно бегавшими по клавишам инструмента, и понимал, что глубина этой женщины лишь приоткрылась мне, что я никогда не узнаю ее до конца, не смогу представить ей цены…
Мисс Лайджест уже собиралась окончить, но в какой-то момент ее руки соскользнули и замерли, очевидно, от незнания текста. Мелодия прервалась лишь на долю секунды — в следующее мгновение, тряхнув головой и пропустив полтакта, мисс Лайджест продолжила играть, не снижая темпа. Несколько последних взлетов, финальный аккорд — и она тут же схватила с рояля ноты и принялась листать их…
— Фа-диез, — подсказал я, вставая.
Мисс Лайджест чуть вздрогнула, повернулась в мою сторону и улыбнулась:
— Вы уверены?
— Абсолютно уверен.
— Не судите меня слишком строго, ведь я не садилась за рояль больше полугода, — она отложила ноты и кивком указала на пыльное покрывало от инструмента на полу, — в этой комнате даже не убирают.
— Вы играли великолепно, мисс Лайджест: вдохновенно, пламенно и технично.
— Вы, мистер Холмс, как всегда, слишком снисходительны ко мне.
— Ничуть. Я говорю то, что думаю.
— Благодарю вас. Присаживайтесь здесь, только снимите чехол с кресла.
— Надеюсь, я не слишком грубо нарушил ваше уединение, мисс Лайджест? — спросил я, усаживаясь напротив нее.
— Когда я услышал звуки музыки, то уже не мог оставаться в своей комнате, не удовлетворив любопытства.
— Вы мне совсем не помешали, мистер Холмс, — ответила она, расправляя рукава и застегивая манжеты, — вы же знаете, что я всегда рада вашему обществу.
— А я не устаю удивляться тому, как много вы умеете. Почему вы не сказали, что замечательно играете, когда мы с вами беседовали о музыке и спорили о вкусах?
— Это было бы не слишком скромно с моей стороны, усмехнулась она, — и, кроме того, вы ведь тогда тоже не сказали, что играете на скрипке, и я вынуждена была позже разоблачить вас. Помните?
— Мне этого не забыть.
Она рассмеялась:
— И теперь вы пришли в полной решимости снова доказывать мне превосходство «Летучего голландца» над «Севильским цирюльником»?[5]
— Нет, мисс Лайджест, вы выставили мои музыкальные вкусы в очень уж примитивном виде. Я действительно предпочитаю немецкую музыку: она располагает к глубоким размышлениям и помогает сосредоточиться, когда это необходимо. Но я отнюдь не собираюсь переубеждать вас в том, что касается ваших личных пристрастий!
— В самом деле? Даже если я скажу, что мой любимый композитор вовсе не Бетховен?
— Даже в этом случае… А что в наших спорах я показал себя настолько непримиримым, мисс Лайджест?
— Насколько я могу судить, вы действительно непримиримый спорщик, мистер Холмс, — улыбнулась она.
— Должно быть, мой азарт иногда берет верх над здравым смыслом, и это ваша заслуга, мисс Лайджест.
— Моя? — шутливо возмутилась она.
— Хотите сказать, что это я виновата в вашей непримиримости?
— Косвенно да. Вам каким-то образом удается вызывать меня на споры даже тогда, когда я вовсе к ним не расположен, и часто это касается тех вещей, о которых я вообще никогда и ни с кем не спорил!
— О вас я могу сказать то же самое, мистер Холмс! Вы часто, сами того не подозревая, вызываете во мне азарт, который я ничем не могу объяснить.
— Тогда мы квиты. А что это за композитор, мисс Лайджест, на которого вы променяли Бетховена?
— Вивальди. Хотя я не скрипачка, я очень люблю его.
— Вивальди замечателен, но я нахожу его чрезмерно чувственным.
— Чрезмерно? По-моему, он гармоничен и правилен, как никто другой.
— Его захлестывают страсти, и вся эта дрожь в теле дает мало проку.
— А я не думаю ни о чем, когда слушаю его: все мысли занимает только наслаждение.
— Вивальди вызывает ощущения особого рода — эмоции выходят из-под контроля и начинают жить самостоятельной жизнью, а мне это не очень нравится: я предпочитаю, чтобы рассудок всегда сохранял свое главенство.
— Я это заметила, — сказала мисс Лайджест, одарив меня своим спокойным испытующим взглядом.
— Я тоже люблю ясность рассудка, но знаю также и то, что эмоции порой оказываются достаточно сильными и с ними приходится считаться.
— С чем же приходится считаться?
— Я не знаю… Возможно, со стремлением к переменам, с жаждой новых ощущений, свободы, с ненавистью и любовью, наконец. Знаете, наши чувства иногда преподносят нам сюрпризы и оказываются очень неожиданными, — ее синие глаза вдруг заискрились то ли теплотой, то ли сожалением, то ли насмешкой.
— Да, я это знаю, — согласился я, — чувства бывают самые разнообразные, но это не значит, что я намеренно подавляю их. Просто чаще всего в их внешнем выражении не бывает необходимости.
— А вы уверены, что правильно оцениваете эту необходимость, мистер Холмс? — улыбнулась она.
— Может быть, кто-то нуждается в ваших чувствах больше, чем вы думаете?
— Ну, в этом случае он, наверняка, сообщил бы мне об этом или же нашел другой способ дать это понять.
— Это не всегда бывает просто, — заметила она, продолжая улыбаться.