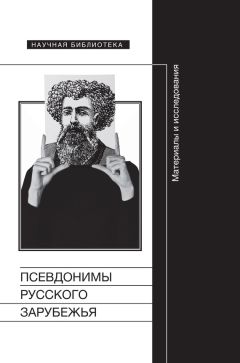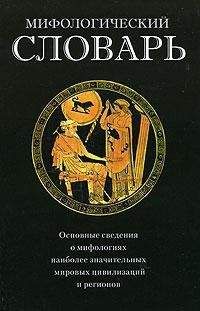Людмила Зубова - Языки современной поэзии
Важно, что упомянутые Кибировым птицы неравнозначны в сложившемся культурном пространстве, а реполов, с которого начинается текст, и вообще не символизирован в русской культуре: он самая «неавторитетная» птичка, даже ее название мало кому известно. Но само составление списка здесь принципиально значимо: хаотичная совокупность образов, немыслимая для привычного поэтического пространства, существует в сознании человека. Судьба реполова, цыпленка жареного, ласточки, соловья-Филомелы и всей птичьей компании, объединенной Кибировым, — одна: возвращение «в чертог теней». Перечисленные существа равнозначны именно внутри этой целостности, но она распадается, и список становится поминальным.
Рассмотрим еще один тип литературного многоголосия.
В стихотворении «Исторический романс» звучат голоса и возникают образы из произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Л. Н. Толстого, Достоевского, Некрасова, Блока, Хлебникова, Есенина, Ахматовой, Окуджавы, Галича.
В заглавии текста присутствует множественная игра значениями слов роман и романс. Историческими бывают романы как литературный жанр, но у Кибирова речь идет о романе любовном, который и становится метафорой исторического пути России. Один из формальных аспектов этой языковой игры дает читателю возможность мысленно отделить последнюю букву («с»), то есть прочесть заглавие стихотворения с ёрнически архаизирующим «словоерсом»: Исторический роман-с[375].
Прежде всего «Исторический романс» представляет собой парафраз стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка», ставшего популярным романсом:
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАНС
Что ты жадно глядишь на крестьянку,
подбоченясь, корнет молодой,
самогонку под всхлипы тальянки
пригубивши безусой губой?
Что ты фертом стоишь, наблюдая
пляску, свист, каблуков перестук?
Как бы боком не вышла такая
этнография, милый барчук.
Поезжай-ка ты лучше к мамзелям
иль к цыганкам на тройке катись!
Приворотное мутное зелье
сплюнь три раза и перекрестись!
Ах, mon cher, ах, топ ange, охолонь ты!
Далеко ли, ваш бродь, до беды,
до греха, до стыда, до афронта?
Хоть о маменьке вспомнил бы ты!
Что ж напялил ты косоворотку,
полюбуйся, mon cher, на себя!
Эта водка сожжет тебе глотку,
оплетет и задушит тебя!
Где ж твой ментик, гусар бесшабашный?
Где Моэта шипучий бокал?
Кой же черт тебя гонит на пашню,
что ты в этой избе потерял?
Одари их ланкастерской школой
и привычный оброк отмени,
позабавься с белянкой веселой,
только ближе не надо, ни-ни!
Вот послушай, загадка такая —
что на землю бросает мужик,
ну а барин в кармане таскает?
Что, не знаешь? Скажи напрямик!
Это сопли, миленочек, сопли!
Так что лучше не надо, корнет.
Первым классом, уютным и теплым,
уезжай в свой блистательный свет!
Брось ты к черту Руссо и Толстого!
Поль де Кок неразрезанный ждет!
И актерки к канкану готовы,
Оффенбах пред оркестром встает.
Блещут ложи, брильянты, мундиры.
Что ж ты ждешь? Что ты прешь на рожон?
Видно, вправду ты бесишься с жиру,
разбитною пейзанкой пленен.
Плат узорный, подсолнухов жменя,
черны брови да алы уста.
Ой вы сени, кленовые сени,
ах, естественность, ах, простота!
Все равно ж не полюбит, обманет,
насмеется она над тобой,
затуманит, завьюжит, заманит,
обернется погибелью злой!
Все равно не полюбит, загубит!..
Из острога вернется дружок.
Искривятся усмешечкой губы.
Ярым жаром блеснет сапожок.
Что топорщится за голенищем?
Что так странно и страшно он свищет?
Он зовет себя Третьим Петром.
Твой тулупчик расползся на нем[376].
Стихотворение «Исторический романс» как будто иллюстрирует такой тезис современного философского литературоведения:
И вот, постмодернизм, с его отвращением к утопии, перевернул знаки и устремился к прошлому — но при этом стал присваивать ему атрибуты будущего: неопределенность, непостижимость, многозначность, ироническую игру возможностей. Произошла рокировка.
(Эпштейн, 2000: 284)В «Историческом романсе» и происходит рокировка фиг некрасовской жанровой зарисовки: любовное томление охватывает не девушку, а корнета, соблазняет она, а не он.
Приведем стихотворение Некрасова:
ТРОЙКА
Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от весёлых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу —
Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг.
И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.
На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьётся алая лента игриво
В волосах твоих, чёрных как ночь;
Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается лёгкий пушок.
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.
Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.
Поживёшь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна и легка…
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдёшь мужика.
Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.
От работы и чёрной и трудной
Отцветёшь, не успевши расцвесть.
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.
И в лице твоем, полном движенья,
Полном жизни — появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.
И схоронят в сырую могилу,
Как пройдёшь ты тяжёлый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.
Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!
Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки и сыты и бойки, —
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой…[377]
Кибиров возражает Некрасову и всей идеологии романтического славянофильства, зная, что идеалы народных заступников и просветителей остались красивой мечтой. Зарисовку любовной ситуации Кибиров превращает в нравоучительную лекцию по истории. То, что для Кибирова — прошедшее, для его адресата-корнета, как и для персонажей стихотворения Некрасова, а также для всех писателей, чьи голоса вплетаются в текст «Исторического романса», — будущее.
Некрасов сочувствует крестьянке, Кибиров — корнету. Поучительный тон предостережений уместен, поскольку прямое обращение адресуется совсем молодому человеку[378].
Возможная трагедия, о которой повествует Некрасов, несколько преувеличена: жертва соблазна все-таки выйдет замуж, хоть и за неряху, привередника и грубияна, ей все же предстоит нянчить, работать и есть, а перед этим у нее Будет жизнь и полна и легка. Корнет же обвиняется, может быть, в какой-то мере и справедливо, но нелогично: не увлекшись корнетом, эта девушка все равно бы вышла замуж за мужика и работала бы не меньше. А преждевременно увянуть от измены возлюбленного могла не только крестьянка.
У Кибирова трагедия представлена как более серьезная: корнета зарежет дружок соблазнительницы, вернувшийся из острога. Чужому, какими бы благими ни были его намерения, нет места в замкнутой системе крестьянского уклада жизни. Сначала повторив слово некрасовского текста подбоченясь, далее ту же позу Кибиров называет иначе: не на крестьянском, а на дворянском языке: Что ты фертом стоишь, наблюдая… Через строку появляется слово, прямо указывающее на внеположенность наблюдателя: этнография. А наблюдает корнет пляску, свист, каблуков перестук — как Лермонтов: И в праздник, вечером росистым, / Смотреть до полночи готов / На пляску с топаньем и свистом / Под говор пьяных мужичков («Родина»[379]). Это стихотворение Лермонтова начинается строкой Люблю отчизну я, но странною любовью. Кибировский акцент на том, что наблюдатель праздника — человек на нем посторонний, побуждает видеть в слове странною этимологическое значение ‘со стороны’. Кстати, Лермонтов был корнетом лейб-гусарского полка.