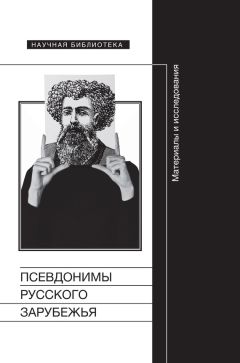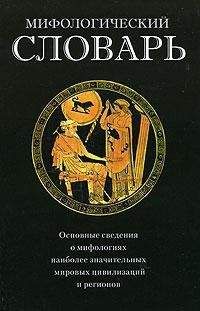Людмила Зубова - Языки современной поэзии
И сам Пригов, постоянно напоминавший о том, что он «как бы поэт», что его тексты — имитация стихов, тем не менее давно сказал, что в его текстах «есть интенция к истинной поэзии, и она как пыль сидит в таком стихотворении» (Пригов, 1993: 120).
Плановое и сверхплановое многописание Пригова — не только художественная акция, но и практическая философия. Затраты труда и энергии в данном случае несопоставимы с заявленной автором исключительно имиджевой стратегией. Именно через многописание, когда иронии так много, что ее восприятие притупляется, через маскарад и мнимое косноязычие субъекта речи, берущего точное слово отовсюду, где его можно найти (даже оттуда, где оно опошлено и обесценено), Пригову удается пробиться к означаемому и заставить читателя в конце концов серьезно отнестись к таким, например, высказываниям:
Вот в очереди тихонько стою
И думаю себе отчасти:
Вот Пушкина бы в очередь сию
И Лермонтова в очередь сию
И Блока тоже в очередь сию
О чем писали бы? — о счастье
Обидно молодым, конечно, умирать
Но это по земным, по слабым меркам
Когда ж от старости придешь туда калекой
А он там молодой, едрена мать
На всю оставшуюся вечность
Любую бы отдал конечность
Чтобы на всю, на ту же вечность
Быть молодым.
Ан поздно.
Образцового постмодерниста Пригова вполне можно понимать и как автора, который преодолевал постмодернизм. По крайней мере, в двух пунктах. Во-первых, его тексты вполне могут быть восприняты как прямые лирические высказывания, от которых постмодернизм отворачивался. Во-вторых, вопреки постулатам постмодернизма Пригов активно внедрял в свои тексты пафос и дидактику — для достоверности косноязычно, буквализируя мифологему косноязычного пророка. При этом оказывается, что мораль, положительная идея, положительный персонаж, пройдя через языковую профанацию, отвоевывают новые территории, распространяются на те языковые и социальные пространства, в которых им не было места, — «высветляя неожиданные зоны жизни в, казалось бы, невозможных местах» (Пригов, 1989: 418).
Вероятнее всего, имидж не-поэта и псевдопафос были нужны Пригову для того, чтобы освободить сообщение от поэтической патетики, косноязычие — для того, чтобы вернуть слову доверие, языковые маски — чтобы испытать разные возможности языка, комичное морализаторство — чтобы произнести мораль.
Мораль, пройдя через языковую профанацию, отвоевывает новые территории, распространяется на те языковые и социальные пространства, где ей не было места. И ведь действительно, когда читаешь Пригова, становится жалко его персонажей — тараканов, крыс, курицу в супе, человека, задумываешься о быстротечности жизни, о том, что на свете главное.
И над смешением языков (высокого поэтического, вульгарного, примитивного, казенно-пропагандистского, канцелярского) у Пригова можно не только посмеяться, но и задуматься. Совершенно верно, что «художественная состоятельность автора целиком определяется его чуткостью к процессам, происходящим в языке» (Айзенберг, 1991: 6). А процессы эти проявляют себя прежде всего при нарушении социальных и жанровых границ языка.
Итак, максимальный и совершенный концептуализм Пригова превращается в свою противоположность, а языковая игра, в которой слово ведет себя скорее естественно, чем культурно, становится предпосылкой и условием серьезного высказывания. В поэзию переносится явление, уже давно освоенное прозой: на то, что персонаж говорит правду, указывает не его красноречие, а его косноязычие:
Люди, не утратившие живой души, неловко, с мучительным трудом оформляют свои переживания и мысли в словах.
(Эткинд, 1998: 411)Если верить Д. А. Пригову, что для него имеет значение имидж, а не текст, то придется признать, что его стратегия, оказавшись столь совершенно воплощенной, привела к результату, противоположному первоначальному замыслу: интересными и содержательными стали именно его тексты — имидж оказался не целью, а средством его поэтических высказываний.
Тимур Кибиров: переучет в музее словесности
Смысла, смысла,
Смысла, смысла
Домогался и молил,
Копоть смыл
И суть отчистил,
Воск застывший отскоблил.
Т. КибировВ рекламной подборке цитат, напечатанных на обложке сборника Тимура Кибирова[360] «Избранные послания», первым помещено высказывание Д. А. Пригова:
…начав как поэт лирической школы, Кибиров вполне сознательно пришел к современному стихосложению, к современному пониманию проблем не только стихосложения, но и нового типа авторской позы.
Противоположное суждение, кажется, больше соответствует реальности:
Для него вообще естественность, может быть, самое важное поэтическое качество.
(Бавильский, 1998: 20)Все же Пригов, инсталлируя персонажей в своем литературном пространстве, в этом случае принял желаемое им за действительное. «Избранные послания», а также предшествующие и последующие сборники Кибирова написаны поэтом не позирующим, а говорящим живыми словами. На первый взгляд, чужими, но Кибиров помещает эти слова в такие тексты, где они становятся его личными.
Тотальную цитатность как самое наглядное свойство постмодернистских текстов теоретики постмодернизма объясняют представлением авторов об исчерпанности всех возможных языков культуры, деперсонализацией автора, видят в ней сознательное воспроизведение хаотичности мира, поглощение субъекта речи языком и, напротив, преобразование общего в индивидуальное, банального в новое. Давно известный прием приобретает во второй половине XX века совершенно иную мировоззренческую основу по сравнению с литературными перекличками классической поэзии. Традиционно цитата обозначала преемственность идей и культур, сейчас во многих случаях указывает на разрыв между ними.
Оказавшись, наверное, чемпионом по центонности[361] текстов — бесконечному монтажу перефразированных цитат, реминисценций, аллюзий, что воспринимается как самый наглядный признак постмодернизма, Кибиров с самого начала не соответствовал постмодернистским установкам по сущностному признаку: он не отстранялся от того, о чем писал, в каждом его тексте удивляла необычная для нашего времени «поэтическая горячность» (Гандлевский, 1994: 5). Кибиров не усвоил и постмодернистского этического плюрализма: различая добро и зло[362], он всегда позволял себе быть дидактичным, предъявлять претензии не только современности, но и ставить на вид классикам и романтикам последствия их энтузиазма в воспевании стихий:
Эх, поглядеть бы тем высоколобым и прекраснодушным,
тем, презиравшим филистеров, буршам мятежным,
полюбоваться на Карлов Мооров в любой подворотне!
<…>
Здесь на любой танцплощадке как минимум две Карменситы,
здесь в пионерской дружине с десяток Манон, а в подсобке
здесь Мариула дарит свои ласки, и ночью турбаза
стонет, кряхтит Клеопатрой бесстыжей!.. И каждый студентик
Литинститута здесь знает — искусство превыше морали.
И. Б. Левонтина, цитируя строки из «Послания к Ленке» в статье о слове и понятии пошлость, пишет:
В этом стихотворении Кибиров замечательно показал диалектику пошлости, очень проницательно связав ее с романтизмом — как в широком, так и в узком смысле этого слова. Сначала на романтическом этапе культуры происходит порыв к высокому, отрыв от низкой обыденности. Замкнутость в личном мирке, на собственных интересах связывается с человеком примитивным, бездуховным и объявляется мещанством и пошлостью (в таком культурном контексте эти два слова сближаются). Потом эта романтическая риторика сама становится штампом, готовым клише, пародией, которая перемещается в низовые слои, в массовую культуру и начинает оцениваться как пошлость. Это Кибиров и имеет в виду, описывая пробирающегося к прилавку Мельмота и Карменсит из ПТУ <…> А обыденность, живая жизнь в этом случае, напротив, одухотворяется. <…> Тут и происходит реабилитация мещанства, и оно выдвигается в качестве антонима пошлости.
(Левонтина, 2004: 236–237)В объединении насмешки с пафосом у Кибирова нет ни тени цинизма, самосознание этого автора часто оперирует местоимением мы[364], особенно в поэмах-посланиях[365], а язык чувств, во всей его фамильярности, сформирован преимущественно образами русской словесности: