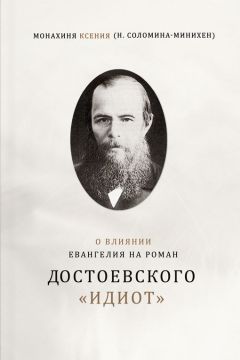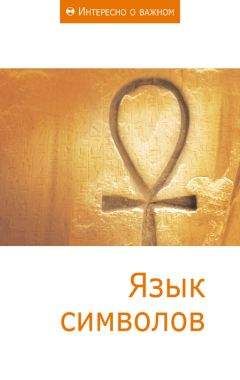Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма
В общем, народу было много. Он весь был как бы размазан по огромной территории белого снежного пространства… (ЖВМ, с. 139)
Топонимы сами располагаются в пространстве, лишенном топографической определенности. Имена эти не вносят никакого различия, но порождают эффект слипания, образования массы.
Совершенно так же функционируют и списки, казалось бы, абсолютно иного рода. В той же книге Пригов дает срез демографии Москвы, население которой, по его подсчетам, «в мирное время» вырастало до 100–120 миллионов, а иногда достигало 3–4 миллиардов. После описания разных категорий жителей Пригов доходит до элиты:
Оставшаяся часть являла собой научных работников, работников культуры, Героев Социалистического Труда, народных учителей и художников, академиков, лауреатов Сталинской, Ленинской, Государственной и Нобелевской премий. Было немало также спортсменов и артистов. Таких, как Уланова, Плисецкая, Коненков, Капица, Келдыш, Яшин, Старшинов, Паустовский, Фадеев, Прокофьев, Мравинский, Мичурин, Астангов, Гиллельс, братья Манн, Роднина, Серов, Шостакович, Ландау, Кюри, Лысенко, Глазунов, Сартр, Римский-Корсаков и др. (ЖВМ, с. 139)
Имена эти, несомненно, имеют совершенно определенную личную окраску, но в тексте Пригова они ничем не отличаются от «имен» шпаны: «хавские, суремские, полянские, новокузнецкие, павелецкие, мадово-триумфальные, мадово-кудринские, мивцево-вражские, курские, садово-кольцевые, киселевские». Имена эти генерируются точно так же, механически продлевая список знаменитостей, куда Кюри, Сартр или братья Манн включаются по той же логике, что Уланова и Плисецкая. Это просто компоненты коллективной памяти, не имеющие никакой индивидуальной сущности. О них и говорится, что носители их «здесь и возникли, а потом уже распространились по всему свету» (ЖВМ, с. 139). Пригов имеет дело не с людьми, но именно с некими «общими именами», устанавливающими не различие, но сходство.
В механически генерируемых списках, собирающих воедино элементы коллективной памяти, любое имя устанавливает по преимуществу сходство:
Но вернемся к Ленинграду, – пишет Пригов. – Вернее, Москве. Города‐то все одни и те же. Даже имена похожи до неразличения. Ну, сравните, к примеру, – Москва, Ленинград. Неразличимы. До ужаса неразличимы. Да и вообще. Все – одно и то же (ЖВМ, с. 11).
Тот же мотив всплывает в «Только моей Японии», где неразличимость поражает уже не только Москву и Ленинград, но весь мир. Тут описывается, как из одинаковых гостиниц люди едут в одинаковые аэропорты, садятся в одинаковые самолеты и летят в чужие страны, едва ли отличимые от своих, и т. д. Это незыблемое сходство всего имеет языковой характер и приводит к ощущению полнейшей неподвижности, исчезновения идентичности мест:
Где был? Сейчас или уже в прошлый раз? Ты или кто другой? Вообще о чем все это? Кто навел на тебя морок? С какой такой своей коварной целью? Куда бежать дальше? Да никуда. Стой на месте и терпи. Принимай все смиренно, как с пониманием и смирением принимаешь недвижимое и постоянное пребывание в одном неложном месте своей земной приписки – в милом моем Беляеве, например[332].
Мир становится «разросшимся до планетарного размера Беляево». А Беляево выступает как «не-имя», как такой же общий термин, определяющий «не-место».
Да и люди, наконец, чудовищно похожи друг на друга, везде, ну буквально везде. Просто неприлично похожи друг на друга[333].
Это сходство несходного – типичная черта симулякров, придающих всему миру оттенок всеобщего сходства.
6. СХОДСТВО И БЕСФОРМЕННОСТЬИсчезновение идентичностей возникает на пересечении монотонных рядов памяти, мобилизуемых припоминанием, и унылых языковых парадигм. Слова не вносят необходимого различия, но наоборот стирают несходство, а память, соответственно, погружается в неразличимость. Пригов пишет: «Помнить да припоминать постоянно нарастающих, изменяющихся людей – труд неблагодарный» (ЖВМ, с. 13). Он даже придумывает эпизод, в котором дети больше не опознаются собственными родителями, в ужасе отталкивающими их: «Кто ты, оборотень?! Я не знаю тебя!» (ЖВМ, с. 13).
Когда‐то Вальтер Беньямин предложил говорить в связи с языком о «нечувственном подобии», которое, например, присутствует во всех видах письма и помогает устанавливать связь между означающим и совершенно непохожим на него означаемым. По мнению Беньямина, письмо является моделью для чтения любых текстов (физиогномического, астрологического), основанных на принципе аналогии:
…тот миметический талант, который прежде служил основой ясновидения, весьма постепенно, в тысячелетнем ходе развития, переместился в язык и письмо и создал себе в них наиболее полный архив нечувственных подобий. Таким образом, язык можно было бы считать наивысшим применением миметический способности: медиумом, куда без остатка влились прежние способности запоминания подобного, так что в результате язык представляет собой медиум, где предметы уже не соприкасаются друг с другом напрямую, как было в сознании провидца или жреца, но где встречаются и взаимодействуют их сущности, их мимолетнейшие и тончайшие субстанции, даже ароматы. Иными словами: с течением истории ясновидение передало свои древние силы письму и языку[334].
Язык поглощает в себя вещи, которые истончаются до умозрительных сущностей (столь важных для Пригова). В языке постепенно все становится похожим. Если же различительные функции языка резко ослабевают, то это «нечувственное подобие» начинает распространяться на объекты описания с такой интенсивностью, что все они сливаются в нечленораздельную массу. Всеобщая эквивалентность и тотальное сходство занимают центральное место в книге Пригова «Исчисления и установления».
Вот как описывает Пригов это неразличение, характерным образом вписывающееся в неразличение пространств и атрофию имен:
Мы шли в те никак не названные края. Вернее, их изредка при нас именовали Никитскими воротами или Никитским бульваром. Но кто мог с достоверностью подтвердить, проверить, опровергнуть истинность или ложность этих имен? Мы шли, я с удивлением осторожно исподлобья разглядывал незнакомые мне лица. Вроде бы все как у нас. Местные обитатели внешне весьма походили на наших соседей. Но внутренним чутьем я сразу определял их чуждость. ‹…› Что‐то пустотное чувствовалось за ловко скроенной человекоподобной оболочкой (ЖВМ, с. 31).
Неразличение порождается утратой различительной способности имен. Никитский бульвар и Никитские ворота перестают быть функциональными топонимами и начинают обозначать «не-место» (как у Пригова не различаются Москва и Ленинград). Они теперь в равной мере приложимы к любому пространственному образованию. От их коррозии начинается коррозия идентичностей населяющих их людей, которых охватывает некое мутное сходство, за которым кроется пустота, то есть чистая симуляция.
Пригов замечает:
Таким образом можно воспроизвести огромное количество человеческих, вернее, уже и нечеловеческих, однако же вполне антропоморфных двойников, а напустить их в наших мир – дело плевое. ‹…› Или, например, в разные точки пространства насылать совершенно идентичный набор людей и воспроизводимый ими социум (ЖВМ, с. 86).
Пригов пишет об «умении притворяться, скрываться, мимикрировать до уровня полнейшей неразличимости, абсолютного исчезновения» (ЖВМ, с. 35).
В этих случаях речь идет о симулякрах в самом прямом смысле слова. Делёз писал о том, что симулякры отсылают к миру фантазмов потому, что они располагаются вне платонического мира сходства (между оригиналом и копией). Симуляр же «призывает нас мыслить подобие и даже тождественность как продукт глубинного несходства»[335]. В симулякрах несходные серии сходятся и образуют эффект чисто внешнего подобия, скрывающего фундаментальное несходство, лежащее за ним: «…сходство возникает за внешней кривой, а различие, большое или маленькое, в любом случае занимает центр децентрированной таким образом системы»[336]. Отсюда именно акцент на мимикрии, которая производит сходство между совершенно несходными объектами. В центре же системы не существует никакой тождественности, но лишь скрываемая за внешним сходством нарастающая пропасть несхождения, несоответствия. Пропасть, в которую в конце концов проваливается симулякр, исчезает.
Внешне эти приговские симулякры напоминают клоны Сорокина – постоянный, навязчивый мотив прозы последнего. Но у Сорокина клоны – это именно симуляционные двойники в духе Бодрийяра (специально писавшего о клонах[337]), фантазматические копии, в которых гнездится смерть. У Пригова же они связаны с расширяющейся бездной несходства в их сердцевине, которая неотвратимо пожирает сходство. Когда Пригов говорит о мимикрии до полного исчезновения, он прямо указывает на финальную стадию сходства, в которой исчезает всякая идентичность.