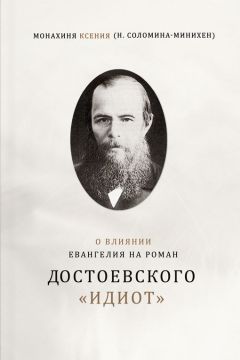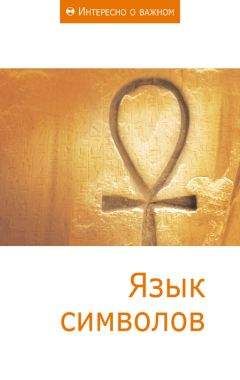Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма
В отличие от предыдущих глав-описаний, мне не приходится напрягать память, вступать в сложные отношения со всякого рода искажениями, желаниями искажений, искажениями желаний, смутой и насильственностью как бы насильственно выпрямляемых воспоминаний. Или воспоминаний, навязываемых страхом искажений, провалов, реальной невозможностью избежать ни первого, ни второго, ни третьего, ни возможных пятого, шестого, десятого, двадцатого, двадцать первого, наконец. Здесь все ясно, независимо от мелких или крупных жизненных пертурбаций. Здесь все парит в нетленности. Здесь нет прошлого, в субстанциональном смысле (ЖВМ, с. 124).
Искажения памяти прекращаются там, где нет прошлого. Чистота сознания открывается только вне времени.
Существенно, конечно, то, что память в книге Пригова перестает быть индивидуальной способностью или хранилищем личного опыта. «Я» рассказчика оказывается каким‐то безличным «Я», не несущим никакой личной ответственности за рассказ. Воспоминания оказываются не только бытийным образом времени, но прямым выходом в «стилевое» или «языковое», то есть надличное, принадлежащее самой эпохе, а не индивидам в ней. Воспоминания же приобретают в силу этого некое механическое свойство разворачиваться в соответствии с принципом безостановочного самопорождения. В итоге мемуары принимают форму почти непрерывной серии описаний катастроф, якобы безостановочно постигающих Москву. Конечно, отечественному читателю не надо объяснять, почему история его родины может описываться как цепочка катастроф и катаклизмов. Но у Пригова эта цепочка имеет совершенно особые свойства. В начале книги автор предупреждает:
Беспрерывное воспроизведение череды почти равновеликих, равномощных катастрофических событий может вызывать если не удивление, то некоторое утомление. Согласен. Просто надо смириться (если вообще надо с чем‐то смиряться). Надо просто попытаться попасть в ритм с этим монотонным ритмическим воспроизведением неких реальных или выдуманных катастроф (в моем случае они все, естественно, реальные) (ЖВМ, с. 8–9).
Ритм в данном случае – это напоминание об условности того стилевого пространства, куда проникает читатель, а именно о его связи с ритмом поэтических или эпических текстов. Но он же отсылает и к принципу цикличности, лежащему за ницшевским вечным возвращением одного и того же. К тому же, очевидна связь темпоральности приговского мира с гностической моделью, согласно которой время само по себе возникает в результате катастрофы, из крушения и распыления в пустоте – kenōma – реальности, существовавшей до крушения в полноте бытия – pleroma. Возникшее время являет себя как удушающая цепь повторений. Анри-Шарль Пюэш пишет о гностике, что «регулярность поражает его как монотонное и давящее повторение, порядок и закон (физический и моральный nomos) – как невыносимое иго»[325]. В манихейском гностическом Царстве Тьмы время регулируется появлением своего рода монстров, которые, как пишет Пюэш, «появляются, пожирают друг друга и порождают друг друга только ради того, чтобы вновь пожирать и уничтожать друг друга – постоянно, механически и, можно сказать, без изменения, цели и конца…»[326]
Но самое существенное – это то, что сюжет, строящийся из однообразного нарастания катастроф и их повторения, во многом связан с природой генерирования текста в «Живите в Москве». Генерирование текста тут разворачивается как припоминание. Припоминание противоположно по своему характеру изобретению, чистому выдумыванию. Выдумывание – это свободная спонтанная активность сознания, а припоминание еще Аристотелем определялось как претерпевание, pathos. И действительно, человек редко сознательно запоминает, и ему трудно припомнить усилием воли. Припоминание чаще всего возникает помимо воли человека, именно как претерпевание. Рассказчик «Живите в Москве» заявляет о своей неспособности выдумывать:
Я ничего не придумываю. Да я вообще никогда ничего не придумываю. Я просто не умею придумывать – не дано, умением не вышел. Да вообще, мало чего можно выдумать, придумать в этом насквозь уже напридуманном, намысленном, населенном и перенаселенном мире (ЖВМ, с. 182).
Относительная пассивность припоминания имеет прямое отношение к статусу «Я» приговского рассказчика, «Я», не обладающего индивидуальной волей и спонтанностью самопроявления. «Я» мемуариста «Живите в Москве» не обладает активностью субъекта. Но в припоминании важно и то, что оно детерминировано определенными событийными, фактическими или временными рядами, в которые инкорпорирован образ памяти.
В одном из «преуведомлений» Пригов так описывает генерацию поэтического текста:
…любое стихотворение чревато, имеет потенцию разрастись в цикл, книгу, как собственно любой жест порождает вариации своих подобий в разработанном, темперированном пространстве. Поскольку пространство стихопорождения столь разработано (а в моей практике предельно актуализировано), то порождение цикла происходит по линии любых свободных валентностей – сюжетной ли линии, конструктивного ли хода, одной повторяющейся и абсорбирующей вокруг себя все прочее детали и пр. и пр. (СПКРВ, с. 260)
Развертывание текстов происходит тут в особом пространстве «стихопорождения», которое не принадлежит никому в частности, это пространство истории поэзии, ее коллективной памяти, размеченное направлениями ассоциаций и стереотипов, то есть стилистик. Пространство это – чистая потенциальность всех вообразимых валентностей (а следовательно, и направлений), которые могут связать элемент текста в сюжетной плоскости с наработанными стереотипами нарратива или через деталь, конструктивный ход подключить к генерации текста иные структуры коллективной памяти поэзии. В любом случае, однако, творчество тут понимается как припоминание, платоновский анамнезис.
Аристотель писал о необходимости вступить в некое последовательное движение (Пригов будет говорить о направлениях, линиях), которое позволит приблизиться к искомому образу памяти:
(Я считаю, что, не рассмотрев прежде всю последовательность, нельзя припомнить.) Движения ведь обычно следуют друг за другом, одно за другим, и если кто желает вспомнить, делает так: он старается ухватить начало того движения, за которым последует другое. ‹…› Ибо воспоминание означает присутствие движущей способности, то есть так, чтобы приходить в движение из самого себя, а именно из тех движений, которые имеются, как уже было сказано. И начинать нужно с начала. Поэтому кажется, что иногда припоминают по месту. А причина такова, что они очень быстро от одного переходят к другому, например от молока к белому, от белого к воздуху, а от него к влажному, после чего к тому, кто забыл, приходит воспоминание о поздней осени, если он пытается вспомнить именно это время года[327].
Воспоминание целиком зависит от расположения, порядка вещей, которые оказали воздействие на восприятие и запечатлелись в памяти (на этих рядах и «местах» основывается древнее искусство запоминания). Припоминание не знает свободы и всегда находится в некой колее, в неком ряду, который Аристотель уподобляет ряду букв в алфавите. От каждой буквы можно двигаться только вперед и назад, никакого другого пути для припоминания нет. Воспоминание складывается из порядка элементов, как мир из букв и стихий – stoichea.
Эта вписанность припоминания в колею придает тексту памяти подчеркнуто механический характер своего рода самодвижения, в котором Я играет совершенно подчиненную роль. Аристотелевский пример с серией букв в алфавите использовал и Германн Эббингхауз в своей классической книге о памяти (1913):
…при повторном появлении каждая идея борется за то, чтобы вызвать каждую иную идею той же серии. Предположим первым является а, оно теснее всего связано с b, менее тесно с с, еще менее тесно с d, и т. д. Если взять в их перевернутом порядке, b, c и d в свободном состоянии соединены с тем, что остается от а[328].
Каждая буква теснее всего связана с близлежащей, а потому припоминание алфавита, например, должно идти в порядке, установленном степенью близости и удаленности элементов. «Самостоятельные законы развертывания смысла», о которых говорит Пригов в связи с движением букв и слогов в слова и предложения, в припоминании детерминированы не зависящим от автора порядком. Отсюда парадоксальное заявление Пригова:
Но к великому моему счастью (а может быть, это только всегдашняя иллюзия), обнаружил я впоследствии, что любому способу соединения слов что‐нибудь в жизни да соответствует (СПКРВ, с. 115).