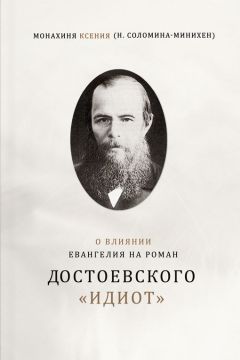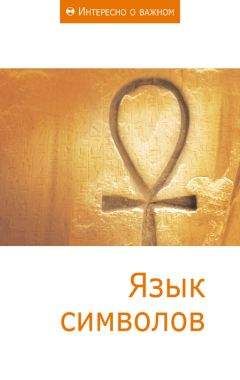Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма
Между логосом и порядком вещей существует изоморфизм. Но этот изоморфизм прежде всего возможен в тексте припоминания, когда само расположение слов следует за порядком вещей в памяти. По существу, разворачивание текста тут дается не как репрезентация, то есть копия некоего идеального образа, но в форме «высказывания» в понимании Фуко – последовательности типа AZERT (об этом речь впереди).
5. СЕРИИКлассическим текстом памяти является роман Пруста. Жерар Женетт заметил, что последний разворачивается в виде неких аналоговых цепочек. Например, за упоминанием комнаты, сравниваемой с бассейном, следует столовая, напоминающая аквариум, от этой столовой ниточка тянется к большому аквариуму в Бальбеке, к маринам Карпаччио, Каналетто и Эльстира. Эти водные аналогии – по существу, метафоры – не просто следуют друг за другом. Как замечает Женетт, у Пруста
отношение аналогии всегда должно было (хотя часто и бессознательно) усилиться, обретя опору в более объективном и надежном отношении: том, которое поддерживают в пространственном континууме – пространстве мира, пространстве текста – соседствующие вещи и связанные слова[329].
Цепочки припоминания, таким образом, как бы комбинируют в себе метафоры и метонимии. Метафора относится к оси селекции, собственно к системе языка, метонимия относится именно к пространству текста, письма, речи. У Пруста все начинается с ассоциаций, чисто языкового перебора вариантов, а затем переходит в длинные метонимические ряды, захватывающие пространство диегезиса и пространство текста, впрочем, до конца неразличимые. Женетт говорит об «аналоговом детонаторе» (détonateur analogique), порождающем «первый взрыв, который всегда неизбежно и сейчас же сопровождается цепной реакцией, оперирующей на основе не аналогии, но смежности, и это именно тот момент, когда метонимическая эпидемия (или, если использовать термин самого Пруста, иррадиация) подхватывает эстафету у метафорического воспоминания»[330]. В этом процессе превращения языковой парадигмы в пространственную цепочку важно подчеркнуть его полуавтоматический, или полубессознательный, характер.
Проза Пригова часто запускается сходным аналоговым детонатором, приводящим в действие ось селекции языка. «Метафоры» в самом широком понимании также превращаются в пространственные цепочки (основанные на принципе комбинации), но часто эти цепочки в конце претерпевают еще одно изменение, как бы возвращаясь, хотя и на другом стилевом уровне, в область селекции.
Например, Пригов использует в «Живите в Москве» исторический эпизод, связанный с консервацией тела Ленина в Мавзолее:
Надо заметить на удивление, он все молодел и молодел год от года. Между прочим, это с содроганием, прямо с мистическим ужасом заметила еще Крупская, зайдя буквально через месяц после смерти навестить мужа: – Мы стареем, а он нет![331] (ЖВМ, с. 176).
Этот мотив оказывается типичным приговским аналоговым детонатором, запускающим длинный ряд элементов, относящихся к усилиям властей остановить омоложение трупа:
Ему вкалывали сдерживающие консервирующие препараты, его массировали, натирали дубящими составами, уснащали маслами, окуривали, придавливали тяжелыми свинцовыми спудами, охлаждали до неимоверных температур. Его уговаривали, упрашивали, читали мантры, заупокойные увещевания, цитировали попеременно из тибетской и египетской книг мертвых, объясняли немыслимость происходящего с метафизической точки зрения. ‹…› Рядом с ним по ночам беспрерывно распевали заклинания специально приглашенные шаманы. К нему подсылали влиятельных и доверенных лиц, старых соратников и родственников. Специально для этого на время выпускали из тюрем Бухарина, Каменева и Зиновьева. Тайком, никем не замеченный, буквально на пару дней приезжал Троцкий (ЖВМ, с. 177).
Этот ряд начинается с техник тела, техник бальзамирования и подготовки трупа к похоронам. Но в этот ряд «по ассоциации» попадают и странные элементы, например «массировали». Затем подсоединяется ряд заклинаний, мантр, камланий. Отсюда прямой переход к уговариванию, упрашиванию и, соответственно, родственникам и влиятельным лицам. От последних ассоциативно мемуарист движется к Бухарину, Каменеву и Зиновьеву, включенным в единый нерасчленимый ряд. А от них уже естественен переход к Троцкому. Повествование идет за счет наращивания ассоциированных между собой элементов, расположенных именно по оси селекции, как в тезаурусах. Далее этот ряд меняет свое направление. Начинает формироваться проект ускоренного старения Ленина, ведущий, в конечном счете, к его захоронению:
Однако вот это вот было мечтой, проектом плоско и материалистически мыслящих людей. К сожалению, их поддержало большинство тупо-обрядово мысливших старомодных церковников. По счастью, подобному не дано было осуществиться. Но поползли слухи. В городе вспыхнули волнения. И нешуточные (ЖВМ, с. 178).
В результате начинается переход «метафорического» в «пространственное»:
С юга неожиданно нагрянуло необозримое людское море, кое‐как вооруженное для восстановления попранной справедливости. Им навстречу бросили истребительные полки. С севера подоспели в подмогу первым мощные, рослые слагатели песен и мифов. Но окончательно все‐таки все решил подход неких западных ландскнехтов, неумолимых в своем неприятии и отрицании ужасов земного воплощения небесных, демонических амбиций. Новое освобожденное пространство устлалось телами тех и других. Таким образом оно собственно освободилось от всех (ЖВМ, с. 178).
Ассоциативный ряд тут обеспечивает нанизывание элементов – южане вызывают к жизни северян. Север ассоциируется с кельтскими или германскими слагателями песен и мифов. За ними следуют ландскнехты, небесные и демонические амбиции и т. д. Но эта амплификация, втягивающая в себя необъятные пространственные просторы, уже имеет откровенно катастрофический характер, которым постоянно завершаются разрастающиеся ряды. Все начинается с образа памяти, пусть не своей, но исторической, например эпизода с Крупской, и разрастается в полную утрату всякой связи с реальностью, причина которой в неотвратимом следовании по цепочке, к которой прикована память. Следование по установленным маршрутам припоминания (в принципе не отличимым от парадигм языка, языковых ассоциаций) в конце концов полностью отменяет память, маршруты эти ведут за пределы всякого опыта. Происходит как бы выход из области опыта в область языкового тезауруса.
Разрастание ряда в принципе тяготеет к постепенному прохождению через своего рода «мелкую рябь» различий, напоминающую о «размывающей динамике непрерывного движения», о которой говорится в «Големе». Между каждым следующим и предыдущим элементом различие незначительно. Для того чтобы достичь сильного различия, контраста, требуется некоторое время безостановочного наращивания. Пригов в связи с этим говорит о «гносеологической уловке мерцания», которая сводится к тому, чтобы «мерцать между двумя полюсами, оставаясь в зоне неразрешимости. Неразрешимости, неулавливаемости для постороннего…» (ЖВМ, с. 11).
В результате проза Пригова постоянно сталкивается с элементами, которые несут различие, только как мелкую рябь, под которой торжествует стихия сходства, неразличения. Неразличение оказывается существенной чертой длинных приговских «списков». В «Живите в Москве», например, описывается гиперболическая (как и все в книге) потасовка шпаны двух микрорайонов:
Наши уже на полпути встречали подобных же шаболовских. И начиналось. Ихние подобные же Кочуры, Свиньи, Антонеску, Жерди и Толяки взмахивали руками с зажатыми в них кастетами ‹…›. Потом наши посылали за подкреплением. Шаболовские же вызывали близких им территориально и духовно татищевских. К нам на подмогу подоспевали единомышленники – малоостровские ребята и шпана с Ордынки. ‹…› Затем подоспевали хавские, суремские. Затем полянские, новокузнецкие, павелецкие, мадово-триумфальные, мадово-кудринские, мивцево-вражские, курские, серпуховские садово-кольцевые, киселевские и пр. (ЖВМ, с. 192)
С самого начала антагонисты объявляются «подобными же» «нашим». Затем Пригов иронически определяет «татищевских» как «территориально и духовно близких» шаболовским, а «малоостровские» объявляются «единомышленниками» «наших». Различий межу всеми этими именами в сущности нет, за ними не стоит никаких различимых сущностей. Не случайно определения разных групп Пригов черпает из тех же языковых парадигм, например, превращенных названий станций метрополитена и нелокализуемых московских топонимов – «садово-кольцевые». Топонимы в принципе связаны с определенными пространственными локусами, но у Пригова они совершенно отделяются от мест своей «прописки». В описании Москвы Пригов как‐то замечает: