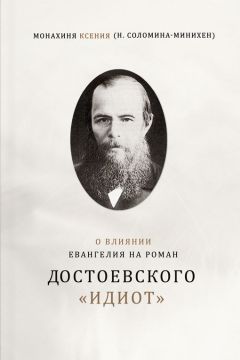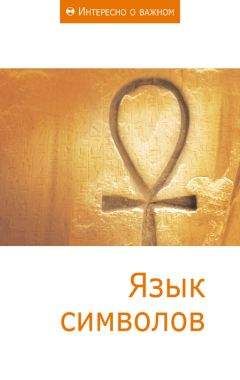Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма
…природа одна управляет всеми действиями животного, тогда как человек и сам в этом участвует как свободно действующее лицо. Одно выбирает или отвергает по инстинкту, другой – актом своей свободной воли; это приводит к тому, что животное не может уклониться от предписанного ему порядка, даже если бы то было ему выгодно, человек же часто уклоняется от этого порядка себе во вред.
Именно поэтому голубь умер бы с голоду подле миски, наполненной превосходным мясом, а кошка – на груде плодов или зерна, хотя и тот и другая прекрасно могли бы кормиться этою пищей, которою они пренебрегают, если бы они только догадались ее отведать[243].
Связано такое поведение не только с врожденными инстинктами. В начале ХХ века один из создателей современной этологии (оказавший существенное влияние на множество философских умов от Кассирера и Хайдеггера до Делёза и Гваттари) Якоб фон Икскюль выдвинул предположение, что каждое животное живет в собственном феноменальном мире, который он называл Umwelt. При этом элементы, составляющие «окружающий мир» одного животного, не соответствуют набору элементов мира другого животного. Цветы, составляющие важный элемент мира пчел, не входят в мир собаки, для которой они просто не существуют. Икскюль писал:
…все животные, оживляющие природу вокруг нас – жесткокрылые насекомые, бабочки, мухи, комары и стрекозы – как будто заключены в прозрачный пузырь, отделяющий их визуальное пространство, и в который включено все то, что видит субъект[244].
С такой точки зрения, поведение животного полностью определено «пузырем» его Umwelt и в сущности не знает свободы. Пригов мыслит мир культуры в категориях Икскюля. Он пишет:
мы живем в окружении и в пределах многих заранее физическо-антропологических предположенных нам тотальностей[245].
Umwelt животного детерминирует его природу, которая в свою очередь определяет конфигурацию окружающего мира. Чистота поведения гения – это чистота поведения зверя в его «пузыре». Для Пригова писатель или художник – это зверь Икскюля. Елена Шварц требует к себе уважения, потому что ее литературный Umwelt – это «пузырь» русской классической поэзии, внутри которого стихотворение сакрально и, соответственно, поэт – пророк. Булатов начинает вести себя по правилам, нарушающим конфигурацию концептуального «пузыря», и утрачивает свою звериную чистоту, и т. д.
Между тем, современная культурная ситуация не просто делает художника зверем и нечеловеком, она совершенно по‐новому строит всю антропологическую ситуацию культуры. Используя метафору Икскюля, можно сказать, что современная культура создает новый тип «сферы», «пузыря», который неотвратимо ведет к возникновению новой художественной антропологии. В одном из текстов Пригов объяснял, что до настоящего времени культура основывалась на двух утопических преставлениях. Первое заключалось в идее
общности антропологических оснований – последней актуальной утопии человечества, порождающей ощущения единства человечества за всю историю его существования и постулирования симультанного мульти-культурного мира[246].
Второе представление вытекает из первого, или, во всяком случае, соотнесено с ним: это постулат «человек – образ и подобие Божие»[247]. Именно этот постулат и обеспечивает представление о единстве человечества. В последнее время, однако, разнообразие культурных сфер стало столь значительным, что больше невозможно соотносить их с неким единым и явно устаревшим антропологическим типом:
Именно современная урбанистическая культура (особенно в пределах все разрастающихся в размерах и количественно нарастающих мегаполисов) весьма существенно изменила основные параметры человеческого существования, вплотную приблизившись к проблеме новой антропологии.
Новая антропология парадоксально выводит нас за пределы человеческого (как об этом свидетельствует новая технологическая, дигитальная культура). Поскольку тексты культуры и есть тот материал, из которого мы постоянно конструируем фигуру художника, новые техногенные, компьютерные тексты явно отсылают к авторам, как к приговским «нелюдям»[248].
Сопоставление художественной деятельности с поведением зверя имеет и еще один важный аспект. Зверь, конечно, не является до конца и полностью индивидуализированным существом в человеческом понимании индивидуации. Зверь – это прежде всего представитель своего класса, вида. «Тексты», которые создают животные (а под текстами можно понимать их поведение), никогда не являются до конца индивидуальными. Поведение одной мухи радикально не отличается от поведения другой. Пригов – и это важно – многократно отмечал невозможность личного высказывания художника в эпоху постмодернизма. В большом интервью, взятом у него Ириной Балабановой, ДАП, например, заявлял:
Поразительная вещь: под постмодернизмом в литературоведении понимают все что угодно. Но не понимают основного пафоса постмодернизма – проблематичность личного высказывания, его невозможность. А по этому критерию мало кто постмодернист. Как правило, имеют в виду авторов, которые играют текстами, но вполне уверены в том, что личное высказывание существует, только иного типа[249].
Личное высказывание исчезает по нескольким причинам, одна из которых вписанность художественных текстов – наподобие жестов и типов поведения – в пузыри-тотальности культуры. Текст, принадлежащий классической русской традиции, ей генерируется и принадлежит этой традиции в большей степени, чем автору. Именно в этом смысле автор текста не является его личным создателем. Текст – это прежде всего проявление культурной «тотальности». При этом Пригов за «гениальными» авторами признает абсолютную индивидуальность авторского голоса. Высшей похвалой автору для него всегда была узнаваемость стиля – «как у Рубинштейна» или «как у Сорокина»:
Владимир Георгиевич – единственный современный прозаик, о котором можно сказать: «как у Сорокина». Все остальные – хороши они или плохи – редуцируемы к чьему‐либо опыту. Даже если взять тексты такого стилиста, как Саша Соколов, не поймешь сразу, кто это написал. Сорокинское письмо узнаваемо безошибочно[250].
Но эта узнаваемость отсылает не к индивидуальному личному опыту автора, а к некой видовой безликости. В конце концов, главный прием Сорокина – это стилизация, способность писать чужими голосами – русской классической прозы, соцреализма и т. д. Его сверхиндивидуальность – это, в конце концов, не что иное как видовая характеристика зверя. Но в силу этой глубокой видовой предопределенности зверя его нельзя спутать с иным зверем – волк всегда волк, а муха – муха. Чистота повадки оказывается эквивалентной современному типу художественной индивидуальности.
Существуют и другие причины невозможности личного высказывания. На одну из них когда‐то указывал Кьеркегор (которого, кстати, Пригов штудировал).
Кьеркегор различал два рода аффектов (пафоса). Наиболее глубокий аффект он называл «экзистенциальным пафосом». Им может быть абсолютная вера либо абсолютная любовь. Особенность этого пафоса заключается в том, что его нельзя сравнить с иным пафосом – ведь он абсолютен, то есть лежит вне сравнений. Соответственно, экзистенциальный пафос не может быть выражен словами. Другой вид пафоса Кьеркегор называет «эстетическим», он предназначен для других, он выражается вовне, и в силу этого утрачивает непосредственную связь с существованием человека:
Эстетический пафос выражается в словах и в своей истине может означать, что индивидуум оставляет самого себя, чтобы потеряться в идее, тогда как экзистенциальный пафос выказывает себя тем, что идея, преобразуя, относится к экзистенции индивида[251].
Эстетический пафос – всегда искажение экзистенциального пафоса, рассчитанное на других. Это, собственно, уже и не пафос, а его художественная репрезентация. Этим, между прочим, Кьеркегор объяснял свои многочисленные псевдонимы. То, что писалось им для публики, немедленно отделялось от его Я и начинало выражать некое искусственное Я, становилось плодом иного автора. Кьеркегор объяснял:
…написанное является, конечно, моим, но лишь постольку, поскольку я вложил в уста продуцирующей поэтически-действительной индивидуальности ее воззрение на жизнь, сделав слышимым ее отклик. Ибо мое отношение даже более маргинальное, чем отношение поэта, который сочиняет персонажей и сам все‐таки в предисловии является автором. Я же как раз имперсонально, или персонально в третьем лице, являюсь суфлером, который поэтически произвел авторов, чьи предисловия являются опять‐таки продукцией, да-да, и чьи имена тоже являются таковой. Таким образом, в псевдонимных книгах нет ни слова обо мне самом; только в качестве третьего лица у меня мнение о них, только в качестве читателя у меня есть знание об их значении, у меня нет к ним даже самого отдаленного приватного отношения[252].