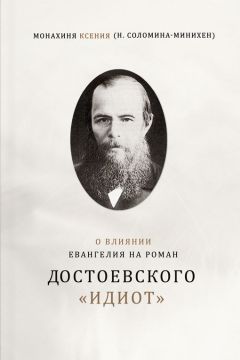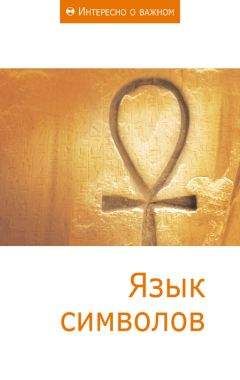Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма
…этот процесс действительно является чистым самоотношением, в котором То же самое является Тем же самым, только испытывая влияние другого, только становясь другим Того же самого. Это самоотношение должно быть чистым, так как на первичное восприятие не воздействует ничего другого, кроме него самого, посредством абсолютной «новизны» другого первичного восприятия, которое является другим Теперь[220].
Иными словами, именно в голосе происходит утрата идентичности говорящего, всегда вынужденного воспринимать даже свой голос как голос себя-другого. Именно в сфере манифестации голоса внутренний аффект, эмоция способны перейти из внутреннего во внешнее, стать формой. Эту неотделимость голоса от пространства и формы чувствовал и Арто, который видел образец «чистого театра» в национальном театре Бали. Он писал:
…наш чисто словесный театр, игнорирующий все, что составляет театр, то есть то, что находится в пространстве сценической площадки, что измеряется и очерчивается пространством, что имеет плотность в пространстве: движение, формы, краски, колебания, позы, крики, – мог бы взять у балийского театра урок…[221]
Показательно, что крики Арто относил к пространственным элементам. Но пространственный сценический образ достигается звуком исключительно с помощью способности звука к абстрагированию, корень которой лежит в первичном раздвоении феномена голоса, описанном Деррида. Именно в этом удвоении исчезает непосредственность голоса и на его место проникает способность обозначать и, соответственно, абстрагировать. Удвоение себя в голосе уже выступает как протописьмо. Приведу еще одну цитату из Арто:
Эти утробные крики, эти вращающиеся глаза, это непрестанное отвлечение от конкретного, шорох листьев, шум ломаемых и катящихся стволов – все это в безграничном пространстве звуков, издаваемых множеством источников, нацелено на то, чтобы в нашем сознании выкристаллизовалось новое и, я не побоюсь этого слова, конкретное представление об абстрактном[222].
Эмоциональное тут прямо переходит в некую пространственную форму эмоции. В сущности, перед нами – настоящая лермонтизация.
Многочисленные перформансы Пригова вполне вписываются в поэтику чистого театра, которую защищал Арто. Многие его перформансы следуют одной схеме. Они начинаются как обыкновенное чтение текста, но постепенно текст уходит в тень и на первый план выступает голос, который меняет свою модальность от подражания литургическому пению до подражания шаманскому камланию. Перформансы Пригова – часто демонстрация перехода от текстового к голосовому. Голосовое в этих перформансах позволяет преодолеть простую смену личин и войти в область становления, превращения, того, что Делёз и Гваттари называли devenir quelqu’un. В перформансах Пригов не играет роль шамана, как он играет роль женщины-поэта, но как бы сам становится шаманом. При этом трансформация эта происходит не столько с ним, сколько с голосом, который превращает аффект в любую возможную форму.
Голос является лучшим инструментом метаморфозы, потому что сам он обладает и непосредственным отношением к Я, и звуковой материальностью. В этом смысле он действительно ближе к «единичному человеческому существованию», о котором Пригов писал в предуведомлении к «Неистовому рециталу».
11Но что это за существование? В 1986 году, тогда же, когда он занимается искренностью и кантатами, Пригов пишет книжечку под названием «Вопли души полусуществующей». В этой книжечке тема крика, голоса, вопля связывается с проблематикой существования. Существование, напомню я, косвенно связывалось Гуссерлем со звучанием голоса, позволяющего, по его мнению, непосредственно пережить момент «Теперь», настоящее мгновение звучания и одновременного восприятия голоса говорящим. Если Декарт связывал существование с актом мышления, знаменитым «cogito», то в феноменологической перспективе именно «самоотношение» (auto-affection) утверждает присутствие Я для себя самого, то есть именно существование.
Пригов же приписывает вопли «полусуществующей душе», собственно самой материальности голоса. Процитирую предуведомление к «Воплям»:
Под стол, под стол заглянем (заглянули!) – что там? – под стул! под стул! в шкаф! скорее в шкаф! – не труп ли там! какой труп? а обыкновенный! так мягко-мягко, бесшумно вываливающийся – нет! нет! за окно глянем – что? что там? что? висит что‐нибудь? а? глядит, может, глазом немигающим? кто, кто там? – никого, вроде; кто, кто ты? – никого; э-э-э, это только вроде; на небеса, небеса-небеса-небеса глянем! – что там? а? есть что‐нибудь? уж наверно что‐нибудь есть! нет, нет, нет, там нет; но ведь где‐то есть! есть! чувствуется! есть! посередке где‐то, мелькающее, воздух прозрачный серым свечением пронизывающее! вот, вот оно (да полно – оно ли?) оно! оно! вот он, вот он, неприкаянный, вот он там, там! висит, висит! поет что‐то, да! да! вот голос его
Текст книжечки передает вопли полусуществующей души, жаждущей полноценного существования. Голос обращается к Господу: «Тебе‐то, тебе‐то, тебе‐то ведомый, ведом я тебе с телом моим мающимся, серым!» Голос истерически вопрошает существование, он как будто что‐то чувствует своими руками, но чувствует ли он действительно? А Бог, разве его существование не столь же призрачно, как существование голоса?
…он чувствует нас, и мы его, мы его чувствуем, но как бы и не чувствуем, как бы не хотим чувствовать, но как глубоко пальцы его неявные втекают под кожу нашу – Памм! памм! о, мы не хотим чувствовать его! а он уже кричит: Я чувствую их!
Здесь существование предстает в формах аффектов и самоаффектов, к которым несомненно относится именно голос (в том числе и голос Бога, которого можно слышать, но нельзя видеть или касаться).
Мир полусуществующих сущностей (неких эмбрионов потенциальных, но не сформированных индивидов), интересовавший Пригова, в том числе и в романе «Ренат и дракон», – это мир аффектов, которые жаждут формы, которые преодолевают спаянность означающих и означаемых и ищут призрачных тел. В этих невидимых телах поэт играет свою роль в режиме становления другим, в режиме перформанса, непосредственно вытекающего из самой установки на лермонтизацию – первичное отслоение аффекта от самого себя.
Глава 6
Новая антропология как новая зология
В изобразительной продукции Дмитрия Александровича Пригова выделяется длинная серия так называемых «портретов», где множество деятелей культуры и приговских знакомых изображены в виде причудливых монстров, окруженных устойчивым набором атрибутов. ДАП рисовал эти «портреты» более тридцати лет, и чисто количественно они занимают совершенно особое место в его творчестве. Пригов оставил нам разъяснение, касающееся этого многолетнего проекта (называемого им «бестиарием»[223]), где, в частности, говорилось:
На рисунках изображены портреты вполне конкретных персонажей – известных исторических деятелей, деятелей культуры, просто моих друзей или же людей, возжелавших оказаться в этом славном ряду. Понятно, что это не обыденные, а, так сказать, метафизические, небесные портреты, перво-изображения персонажа, обладающего всем набором элементов, дающих ему возможности в дальнейшем, в реальности, явиться во всевозможных звериных и человеческих обличиях (персонажи, как заметно, являются, так сказать, андрогинами, то есть существами – по греческой мифологии, имеющей аналогии и в других древнейших мифах и повериях, – обладающими еще неподеленным на различные организмы набором женских и мужских признаков)[224].
В этом смысле монстры – промежуточные «сущности», возникающие на переходе от некой идеальности к энтелехии. Это фигуры, через которые осуществляется модус транзитности.
Эти сущности включены в некий аллегорический контекст. В том же тексте автор пояснял значение атрибутов – согласных и гласных букв фамилии портретируемого, смысл оппозиции черного и белого, сосудов, треугольников, «пятен», двух кругов (черного и белого) в руках персонажей, наличие крестов, яйца и т. д. Весь этот иконографический инструментарий, восходящий к традиционным системам символов, однако, не проясняет существа всего замысла и его значения для Пригова. В чем собственно состоял проект аллегорического представления промежуточных сущностей? Что заставило ДАП сосредоточиться на «небесных», «метафизических» образах, андрогинных первоизображениях, в которых не отделились друг от друга ни различные полы, ни зверь от человека?
Итак, из приговского описания однозначно следует, что он изображает в «бестиарии» не актуальный образ того или иного человека, а как бы его «эмбрион», потенцию, еще не прошедшую через горнило индивидуации и лишь генетически связанную с сегодняшним потретируемым. В 2003 году в «Новом литературном обозрении» Пригов издал книжку «Портретная галерея Д. А. П.», в которую поместил множество «метафизических портретов». Здесь были портреты близких знакомых – Гройса, Сорокина, Попова и т. д. Но были и портреты известных политиков: Горбачева, Ельцина, Черномырдина, Путина и т. д. Большая часть книги – длинное интервью Пригова Сергею Шаповалу, а в конце книги имеется текст, чье название вынесено в заголовок. В «Портретную галерею Д. А. П.» входят короткие очерки о приговских знакомых – Кабакове, Булатове, Некрасове, Гройсе, Рубинштейне, Сорокине, Гандлевском, Попове, Кривулине, Елене Шварц, Михаиле Берге. Эти очерки как будто не имеют отношения к метафизическому бестиарию, хотя животные тут время от времени и поминаются. Всеволод Некрасов, например, говорит Рубинштейну о знакомых поэтах: «Все эти обезьяны едут, один ты более или менее на человека похож»[225]. Рубинштейна при первом знакомстве Пригов отмечает «как маленького козлоподобного человека»[226]. Приятие Евгения Попова культурной средой объясняется так: «…есть мифическое животное с глазами со всех сторон, он с языком со всех сторон»[227]. И все‐таки словесная галерея портретов кажется куда более традиционно «портретной».