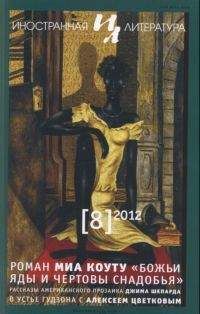Незримый рой. Заметки и очерки об отечественной литературе - Гандлевский Сергей Маркович
Можно зайти с другой стороны. Сызмальства поэт обнаружил в себе “страсть к рассуждению”. И судьба на свой лад учла эту склонность: долгие годы молодому человеку просто не оставалось ничего другого, как философствовать и учиться стоицизму, – Баратынский был, по существу, поражен в правах, и облегчение его участи целиком и полностью зависело от слепой игры случая, то бишь настроения монарха. Снова, по‐видимому, удается разобрать написанное на роду.
Но может быть, разум насильственно привносит смысл и цель в стихию, где им и места‐то нет. Сравнил же Пушкин поведение судьбы с повадками огромной обезьяны… Но если это и так, жизнь поэта Баратынского все равно стройна и содержательна. Пушкин же горячо настаивал на том, что даже в ничтожестве своем незаурядный человек – незауряден. Биография Баратынского замечательна тем, что она приобрела черты, присущие его лирике. Жизнь Баратынского умна и элегична, потому что такова эта поэзия. Творчество настоящего поэта всегда первично по отношению ко всему остальному, подчиненному и согласующемуся с искусством, как придаточное предложение с главным, в данном случае – придаточное биографии.
1998
Орфей в подземке 11

Вот такими с виду азбучно простыми, на грани графомании строфами разразился тридцатипятилетний Владислав Ходасевич на исходе Гражданской войны.
Скепсисом относительно собственной славы и способности народа проникнуться его сочинениями поэт будто накликал на свою голову долгую безвестность. В широкий обиход современной отечественной словесности творчество Ходасевича вошло сравнительно недавно – менее тридцати лет назад. Многие помнят его стихи еще на разрозненных листах бледных машинописных копий. Летом 1988 года я глазам своим не поверил, когда в подмосковном посeлке на прилавке магазина “Культтовары” увидел ходасевичевского “Державина”. И до сих пор Ходасевич – автор ещe не вполне хрестоматийный, что, может, и к лучшему.
Самые разные писатели – от Горького до Набокова – считали Владислава Ходасевича наиболее последовательным продолжателем пушкинской традиции в отечественной поэзии. Но Пушкина, как никого другого из русских поэтов, отличает чрезвычайное богатство лирической мимики и интонационных регистров. Из этого многообразия Владиславу Ходасевичу ближе всего по темпераменту и складу дарования пришлась тональность Вальсингамова гимна чуме – музыки праздничной гибели, “упоения… бездны мрачной на краю”:
В разруху 1919 года Ходасевич вторит этой мрачной здравице почти дословно:
Он, кстати, именно поэтому на первых порах энтузиастически приветствовал большевистскую революцию: “Верю и знаю, что нынешняя лихорадка России на пользу. Но не России Рябушинских и Гучковых, а России Садовского и того Сидора, который является обладателем легендарной козы…” (из письма Ходасевича товарищу, поэту и монархисту Борису Садовскому 15 декабря 1917 года). Очень, даже слишком поэтическая мечта – всем миром прожить без пошлости! Увы, это не в порядке вещей и так же невозможно, как, допустим, существование жизни без бактерий гниения. Вскоре Ходасевич, как и вся Россия, на деле столкнулся с вопиюще бездушной и пошлой практикой революции, и энтузиазм очень многих сменился страхом и отвращением.
И в лирике своей Ходасевич никогда не утрачивал романтической оторопи перед мещанством и его ужасным прозябанием – на фоне блистательной и гибельной красы мироздания. И его последняя прижизненная книга “Собрание стихов” 1927 года заканчивалась стихотворением “Звёзды”: описанием низкопробного представления, где полуголые девицы ведут “непотребный хоровод”, имитирующий движение небесных светил. И в финальной строфе автор восклицает:
Собственно, этому “нелегкому труду” Владислав Ходасевич и посвятил всю свою жизнь.
Талант Ходасевича развивался и мужал в ту пору, когда от серьезной литературы ожидали осуществления чуть ли не бесперебойной связи между идеальным и материальным мирами. Девятнадцатый век неволил русскую литературу общественным служением, долгом перед народом; начавшийся двадцатый – поставил перед ней еще одну, не менее сложную сверхзадачу: стать жречеством.
Говорить художнику под руку, внушать обществу, что истинное искусство обязано быть подспорьем политике, философии, религии, чему‐то еще, – верный способ оставить по себе в культуре недобрую память. Сбитый с толку художник лишается плодотворного ощущения неподотчетности, родства с ветром, орлом и сердцем девы, а у критики и публики, привыкающих ценить в произведении искусства в первую очередь намерение, притупляется художественный вкус.
Уклоняясь от сотрудничества, искусство может объявить себя “чистым”. Но его чистота и диета – не от хорошей жизни и снова означают несвободу, потому что выбор делается от противного. У художника есть только одно средство освободиться из плена общих мест – перерасти их, быть недюжинной творческой личностью.
Владислав Ходасевич и был такой личностью, поэтому он пошел по пути наибольшего сопротивления: традиционное для русской литературы отношение к искусству как к подвигу принял близко к сердцу, но оставил за собой право совершить этот подвиг в одиночку и по своему усмотрению. А общественным эстетическим послаблением, скидкой на подвижничество любого толка – не воспользовался, мечтал даже собственную агонию “облечь в отчетливую оду”.
У Ходасевича репутация гордеца, поэта высокомерного, и она вполне справедлива, если вернуть слову “высокомерие” его буквальное значение. Он действительно мерил жизнь высокой мерой, на свой аршин, исходя из идеальных о ней представлений и изъясняясь с ней на несколько старомодном языке классической поэзии. Но если бы имелось только это, речь бы шла об обаятельном чудачестве, литературном донкихотстве; вернее, говорить за давностью лет было бы не о чем. Чрезвычайное впечатление от лирики Ходасевича объясняется, я думаю, совершенно раскованной, головокружительной интонацией его стихов и совмещением несовместимого: возвышенного слога и обыденных материй – вроде похорон полотера Савельева или поисков мелкой пропажи: