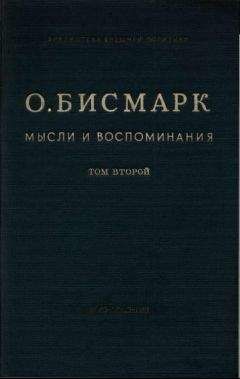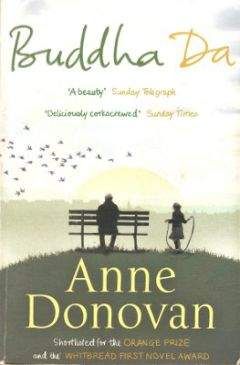Роберт Райт - Моральное животное
Сингер говорит, что наши гены в некотором смысле умничают. Они уже давно научились скрывать вульгарный эгоизм за высоким языком этики, используя его для эксплуатации различных моральных импульсов, созданных естественным отбором. Теперь этот язык, обузданный ясной логикой, побуждает мозг к самоотверженному поведению. Естественный отбор создал две вещи для узко личных интересов — холодный рассудок и тёплые моральные импульсы; каким-то образом их сочетание образует нечто, уже живущее своей жизнью.
С вдохновением разобрались. Самое же циничное объяснение того, почему столь много мудрецов инспирировали расширение моральных границ, было изложено примерно в начале этой главы: широкие границы расширяют власть мудрецов, проповедующих эти идеи. Десять Заповедей, запрещающие ложь, кражи и убийства, сделали паству Моисея более управляемой. Также предупреждения Будды о догматической ссоре сохранили основу его власти от раскола.
В поддержку этого цинизма говорит тот факт, что всемирная любовь, поддержанная столькими священными текстами, после строгого рассмотрения не выглядит истинно всеобщей. Ода самоотверженности в Бхагават Гите включена в несколько иронический контекст: Бог Кришна побуждает воина Аржуну к самодисциплине, чтобы он повысил эффективность резни вражеской армии, в которой, между прочим, несомненно имелись члены его рода. Ами в Послании Павла к Галатиянам, воспев хвалы любви, миру, доброте, и вежливости, говорит: "Давайте делать добро всем людям, особенно тем, кто с нами одной веры". Это истинно мудрые слова главы семейства. Можно начать с того, что даже Иисус на самом деле проповедовал не всеобщую любовь, а его наказ возлюбить «врага», будучи тщательно изученными, оказывается, имел в виду любовь лишь к врагам-евреям.
В этом свете "расширяющийся круг" Сингера выглядит расширением не столько моральной логики, сколько политической досягаемости. Раз уж социум вышел за уровень группы охотников-собирателей до племени, города-государства, этнического государства, то такие масштабы уместно организовывать на религиозной основе. Да, мудрецы пользуются случаем расширить пределы их власти, но это означает необходимость проповедовать соразмерно широкую терпимость. Значит, призывы к братской любви в чём-то подобны корыстным призывам политического деятеля к патриотизму. Фактически, призывы к патриотизму — это, в некотором смысле, призывы к братской любви в национальном масштабе.
Есть и третья теория, которая стоит в середине шкалы цинизма. Да, соглашается она, Десять Заповедей, возможно, сделали паству Моисея более управляемой. Но, возможно, многие «овечки» также извлекли выгоду, ведь взаимное ограничение и уважение приносят выгоду ненулевой суммы. Другими словами, религиозные лидеры, пусть и корыстные, не просто навязали свои интересы массам. Они нашли пересечение их интересов с интересами масс, и это пересечение было очень большим; по мере роста масштабов социально-экономической организации росла и зона ненулевой суммы, а личные интересы людей лежали в области поведения с, по крайней мере, минимальной благопристойностью и ко всё большему числу людей. И тут религиозные лидеры были более, чем счастливы, соразмерно повышая свой статус.
Произошли изменения не только в размерах социальной организации, но и в её характере. Моральные чувства были предназначены для конкретной обстановки или, если точнее, для конкретного ряда обстановок, таких как деревни охотников-собирателей и других более ранних обществ, контуры которых теряются в тумане предыстории. Можно уверенно говорить, что эти общества не имели сложной судебной системы и значительных полицейских сил. Действительно, сила карательного импульса отражает те времена, когда кроме вас самих никто бы не смог отстоять ваших интересов.
В определённый момент ситуация начала изменяться, и значимость этих импульсов стала уменьшаться. Сегодня мы в большинстве своём тратим неоправданно много времени и энергии, потворствуя нашему негодованию. Мы тратим день в полиции, чтобы найти выхваченный кошелек, даже если содержимое его соответствует нашему заработку в течение трех часов, и поимка вора не повлияет на наши неприятности в будущем; мы нервничаем при удаче конкурентов, хотя бессильны с этим что-то поделать, и получили бы выгоду от любезного с ними обхождения.
Трудно сказать, когда именно в человеческой истории какие-то из моральных устоев стали устаревать. Но стоит обдумать догадку Дональда Кампбелла о том, что эти религии древних городских цивилизаций, "независимо возникшие в Китае, Индии, Месопотамии, Египте, Мексике и Перу", уверенно породили знакомые элементы современных религий: ограничение "множества аспектов человеческой природы", включая "эгоизм, гордыню, жадность…, алчность…, похоть, гнев".
Кемпбелл полагает, что эти ограничения были необходимы для "оптимальной социальной координации". Имеется ли в виду оптимальность для правителя или оптимальность для управляемого, он не говорит. Но мы можем воодушевиться тем фактом, что, несмотря на имеющиеся разногласия, они не исключают друг друга. Более того, вопрос "социальной координации" может простираться за границы любой отдельной нации. В настоящее время уже стало банальностью, что народы мира более взаимозависимы, чем когда-либо. Банально, но верно. Материальный прогресс очень углубил экономическую интеграцию, а различные технологии породили угрозы, которые человечество может парировать только сообща. К примеру, деградация окружающей среды и распространение ядерного оружия. Возможно, когда-то в обычных интересах политических лидеров было разжигание нетерпимости и фанатизма своих народов в целях международной борьбы. Но это время проходит.
Индусские священные писания учат, что единая мировая душа живёт в каждом существе, мудрый человек "видит себя во всех и всех в себе". Как метафора великой философской истины — равной священности (читай: утилитарной ценности) каждого носителя сознания — это учение мудро. И как основа практических правил жизни — чтобы достойный человек воздерживался от причинения вреда другим, как бы "он не вредил себе самому" — это учение прозорливо. Древние мудрецы указали, пусть двусмысленно и эгоистично, на истину, которая была не только жизненной и не только ценной, но и нацеленной на рост своей ценности по мере развития исторического процесса.
Сегодняшняя проповедь
Иллюстрируя "пуританскую совесть" викторианской Англии, Уолтер Хьютон описал человека, замечавшего все свои "грехи и ошибки", и привычно обнаруживал "эгоизм… в каждом усилии и решении". Мысль эта восходит, по крайней мере, к Мартину Лютеру, сказавшему, что святой — это тот, кто понимает, что все его поступки эгоистичны.
Это определение святости хорошо подходит к Дарвину. Вот его характерное высказывание: "Но что же за ужасно эгоистичное письмо я пишу, я так устал, что меня ничто не удовлетворило бы, за исключением приятного стимула тщеславия и писания о себе любимом". (Само собой разумеется, это предложение следовало за отрывком, который ныне очень мало кто счёл бы эгоистичным. Он высказал обеспокоенность, но отнюдь не уверенность в том, что его работа на борту «Бигля» получит широкое признание.)
В самом ли деле Дарвин подходит на роль святого в свете определения Лютера или нет, но совершенно точно то, что дарвинизм, в свете того же определения, может помочь сделать человека святым. Никакая доктрина так не обостряет осознание и ощущение собственного скрытого эгоизма более, чем новая дарвиновская парадигма. Если вы понимаете доктрину, принимаете и применяете её, то вы будете жить оставшуюся жизнь, пребывая в глубоких подозрениях о сущности ваших мотивов.
Поздравляю! Вы сделали первый шаг к исправлению моральных склонностей, встроенных в нас естественным отбором. Второй шаг — удержать новонайденный цинизм от отравления вашего мнения о всех остальных, побудить вас быть жёстче к себе и снисходительнее к другим, несколько ослабить безжалостность суждений, которые часто побуждают нас быть удобно безразличным, и даже враждебным к их благу, щедро раздавать симпатию, которую эволюция отмерила нам так скупо. Если эта операция будет хоть как-то успешна, то её результатом может оказаться человек, внимательно относящийся к благу других, в пределе не менее внимательно, чем к своему собственному.
Дарвин шёл по этому пути с приемлемым усердием. Хотя он чутко воспринимал и презрительно относился к тщеславию других людей, главная линия его поведения с другими состояла в великой моральной серьезности, все свои насмешки он направлял на себя. Даже когда он не мог не ненавидеть кого-то, он старался держать свою ненависть в отдалении. Про заклятого врага, Ричарда Оуэна, он написал своему другу Хукеру: "Я весьма демоничен к Оуэну", и "я хочу постараться стать более ангельским в своих чувствах". Смысл не в том, преуспел ли он в этом (нет, не преуспел). Смысл в том, что полушутливое применение слова «демоничный» в отношении собственной ненависти показывает большую моральную неуверенность в себе и меньшее самомнение, чем для большинства из нас обычно характерно. (Ещё более занятно то, что чувства Дарвина вряд ли были запредельны; хотя Оуэн и представлял некоторую угрозу статусу Дарвина своим недоверием к естественному отбору, но был злобным и широко нелюбимым человеком). Дарвин в этом довольно близко подошёл к почти невозможному и высоко похвальному: бесстрастный, основательный, современный (если не постсовременный) цинизм к себе, сочетающийся с викторианской искренностью к другим.