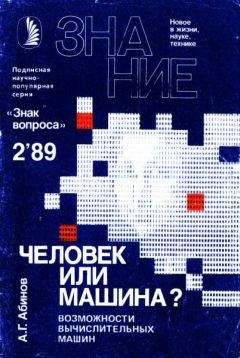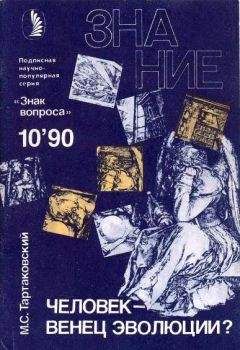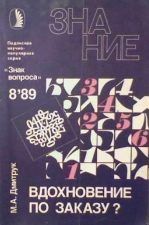Павел Гуревич - Куда идешь, человек?
Наконец, приискивалась кандидатура, вполне пригодная для волнующего палаческого зрелища. Но просто удавить — это неинтересно. На таком пути художественные ленты не рождаются. Обдумывались планы замедленного убийства, которые позволили бы заглянуть жертве в глаза, ощутить ее предсмертный ужас, не пропустить последнее дыхание… Еще хорошо бы жертву после длительных терзаний чуть-чуть оживить и начать все сначала.
Понятное дело, после таких откровений читатель может обидеться на автора и по законам сицилийской мафии послать ему свежий говяжий язык. А это, как известно, последнее предупреждение: поворотись, автор, навстречу собственной погибели… Но приговоренный имеет право на последнее слово. Так вот. Сам я не садист и не палач. Но в психологической структуре человека заложены некрофильские черты. Понятное дело, в разной мере.
Так как же распознать некрофила? Фромм разъясняет: некрофила влечет к себе тьма и бездна. В мифологии и в поэзии его внимание приковано к пещерам, пучинам океана, подземельям, жутким тайнам и образам слепых людей. Глубоко интимное побуждение некрофила вернуться к ночи первозданья или к происторическому миру, к неорганическому или животному миру.
В самом существовании некрофила заложено мучительное противоречие. Он живет, но тяготится жизнеспособностью, развивается как все биологическое, но тоскует по разрушению, ощущает богатство жизни, ее творческое начало, но глубоко враждебен всякому творению. Лозунг его жизни — «Да здравствует смерть!» Вот почему в сновидениях некрофилу предстают жуткие картины, кровь, насилие, гибель и омертвение… В телевизионном зрелище ему созвучны картины смерти, траура, истязаний.
Однако какое отношение имеют некрофилы к универсальной человеческой природе? Ведь не все же люди тянутся к убийствам. По мнению современных специалистов, элементы некрофильства есть в психологической структуре любого человека. К тому же своевременная индустриальная культура чревата сама по себе проявлениями иррациональных страстей. В 1985 г. в свет вышла совместная книга двух американцев — социолога Эшли Монтегю и психолога Флойда Матсона «Дегуманизация человека».
— В чем главная мысль вашей книги? — спросил я у авторов.
— Мы обнаружили зло.
— Но ведь это все равно, что объявить об изобретении колеса как новейшем открытии.
— Понятие зла так же старо, как и человечество. Это верно. Его трагически осмысливали поэты и проповедники, теологи и философы, моралисты и политики… Но вплоть до наших дней феномен зла не представлял интереса для ученых.
— Почему же?
— Потому что сегодня предметом исследования оказывается страдающее человечество.
Мои собеседники сообщили мне, что их задачей было систематизировать все попытки научного постижения зла. Это помогло бы, как они считают, выявить исторические корни и современный облик данного феномена. Ведь именно сегодня обнаруживается синдром дегуманизации, который проявляется в крайней «обезжизненности» человека, в разрушении всех человеческих эмоций. Сформировавшийся социально-психологический тип получил разные обозначения — «живой труп», «зомби», «некрофил».
В лаборатории, созданной Монтегю и Матсоном в Нью-Йорке, проводится эксперимент, который призван обнаружить границы подчинения индивида внешнему диктату. Добровольцы, выступающие в роли «учителей», назначают серию условных электрических шоков «ученикам»..
Я побывал в этой «экспериментаторской». На панелях специального пульта расположены электрические выключатели с указанием напряжения тока от 15 до 450 v. Возле отметки 375 — угрожающая надпись «опасно — сильный ток». У края панели знак — «смертельное напряжение». В комнате, где собрались «ученики», вижу акустические приборы. Экспериментаторы объясняют, что устройство способно воспроизводить то слабый крик, то стоны агонии.
Вспыхнул свет. Эксперимент начался. Наблюдаю за выражением лиц «учителей». Они атакуют свои жертвы. Видно, что некоторым «хозяевам положения» доставляет удовольствие «проучить» тех, кто не очень послушен, демонстрируя своеволие. Из комнаты, где сидят «ученики», раздаются стоны. Но что это? «Учителя» продолжают усиливать электроток! Иные из них точно в трансе. Давно уже нажата кнопка, означающая, что испытуемый на пределе возможного. Но «палачи» упорно продвигаются к самой последней черте — кнопке «смертельное напряжение»…
Ухожу потрясенный. Почему обычные законопослушные граждане, рядовые клерки, инженеры и прочие обнаружили такую жестокость? Ведь они не руководствовались ненавистью или враждой? Какой же раскрепощенный инстинкт повлек их к злодейству?
Когда древние говорили: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» они подразумевали эмоции и вожделения, тайные умыслы и малодушие… Сегодня мы осознаем, что границы «человеческого» гораздо шире. Мы еще не знаем до конца природного предназначения человека. К чему он призван? К раскрытию тайн материи? К пересотворению мира? Но мы смутно предчувствуем, что именно нечто хрупкое, не вполне гармоничное, непознанно-стихийное и делает человека неизмеримо более интересным, значимым, нежели, скажем, идеально спроектированная машина.
Русский поэт XIX в. Федор Тютчев, размышляя о природе, назвал ее сфинксом. Он пытался проникнуть в ее искусительные тайны. И был поражен догадкой: а что, если никакой загадки, которую можно раскрыть путем напряжения мысли, собственно, и нет. Мы пытаемся раскрыть тайну человека. Вычислить до конца, расчленить, осмыслить. Но человек не есть финал творения, как, впрочем, и мир вокруг него…
Мера всех вещей?
В одном из залов Национальной галереи в Лондоне меня привлекла живописная картина далекого XIII в. Я долго стоял у полотна, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. Нет, не сцены и не сюжеты средневекового искусства поразили меня, а лик человека, выписанный искусной рукой живописца.
Характерный прищур глаз. Клинообразная бородка. Выражение безмерной скорби на лице… И вот странный эффект: в этом символическом образе было так много индивидуального, что я поразился собственной догадке: да ведь это портрет!
Человек и время… Миг скоротечной жизни, уникальность личности… И тысячелетняя история человека. Какова ценность жизни этого хрупкого существа? В чем его предназначение?
В составе группы советских философов я ехал из Лондона в Брайтон, где открывался XVIII Всемирный философский конгресс. Форум философов созывается раз в пять лет и, как правило, бывает посвящен одной главной теме. Конгресс, о котором я хочу рассказать, состоялся в 1988 г. и был посвящен философскому пониманию человека.
Небольшой курортный город с аккуратно выстриженными газонами, длинными парковыми аллеями и оригинальными архитектурными сооружениями встретил нас ярким солнцем и прохладным ветром. Вопреки легендам о туманном Альбионе бархатный сезон радовал разноцветием красок. Размеренная комфортабельная жизнь курортного городка создавала впечатление вечного уюта. Болевые точки человеческой истории — трагедия и фарс тоталитаризма, истребительные войны, социальные катаклизмы — казались здесь чем-то далеким, нереальным. Но в первый же день конгресса они напомнили о себе. Разговор за «круглым столом» шел о биологической природе человека. Естественно, коснулись и проблемы неразгаданности человека. Что представляет собой это существо, которое грозит миру тотальным разрушением и всесожжением?
Когда философы говорят о природе или сущности человека, то речь идет не столько об окончательном раскрытии этих понятий, их содержания, сколько о стремлении уточнить роль названных абстракций в философском размышлении о человеке. Причем понятия «природа» и «сущность» человека часто употребляются как синонимы. Однако между ними можно провести концептуальное разграничение.
В принципе под «природой человека» подразумеваются стойкие, неизменные черты, которые присущи хомо сапиенс во все времена независимо от биологической эволюции и исторического процесса. Однако многие ученые склоняются к мысли, что такой фиксированной природы у человека нег. Человек прежде всего живое, природное существо. Он обладает пластичностью, несет на себе следы биогенетической и культурной эволюции.
Если сравнить дикую и домашнюю лошадей, можно отметить, что между ними есть различие. Но носит ли оно принципиальный характер? Ведь биологическая организация, повадки, видовые особенности окажутся, несомненно, одинаковыми. Возможно ли такое рассуждение, если речь идет о сопоставлении дикаря-антропоида и современного человека? Тут обнаружится масса различий… Культура накладывает глубокий отпечаток не только на поведение человека, но и на его своеобразие.
Вот почему многие ученые, указывая на способность человека изменять самого себя, приходят к выводу, что никакой однажды преднайденной природы человека нег. Эту точку зрения поддерживают многие антропологи. Они утверждают, что человеческая натура восприимчива к бесконечным пересотворениям, ее внутреннее устойчивое ядро может быть расколото, разрушено, а изначальная природа преобразована в соответствии с той или иной программой.