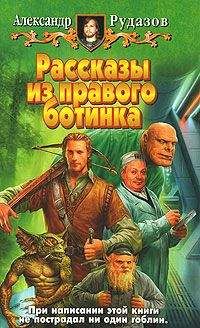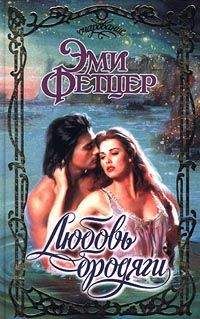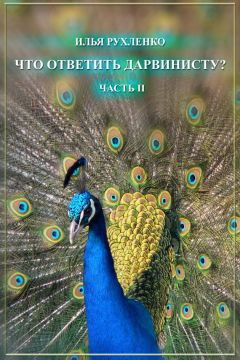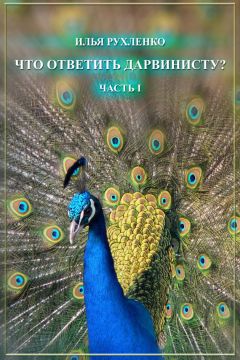Александр Павлов - Демон перемен
Убедиться в этом крайне несложно — для этого достаточно лишь скинуть небольшой защитный слой, который имитирует следование «общепризнанным» институтам. Что будет под ним? Ответ на этот вопрос очевиден. Если нет, то можно в любой момент все понять в ближайшем дешевом кабаке.
На этом фоне псевдо-институты начинают испытывать явный дефицит универсальности их применения. Причина проста — если с их помощью не удается реально решать вопросы всегда, когда это декларируется формально, то и применять их надо выборочно — только тогда, когда это дает достойный эффект. А достойный эффект это даёт только в том случае, когда псевдоинституты применяются в качестве инструментов угроз, которые необходимы на всех уровнях тогда, когда не удается договориться с помощью механизмов институтов реальных. Проще говоря, если понятия не помогают, то иди в суд.
Ситуация известная из истории, равно как и механизм реагирования на неё, который в принципе не может исходить из признания того, что реальных институтов нет. Здесь включается другой обычный механизм, который все более активно используется властью, - искусственное создания объекта для применения искусственных конструкций.
Так выходит и с псевдоинститутами — создается имитация универсальности их применения, типичным примером которой является, например, ОНФ. При этом имитация вынужденно основывается на другом симулякре, который создается теми людьми, которые, как и государство, не признают того, что соответствующих институтов нет.
По иронии судьбы таких людей принято называть гражданскими активистами, то есть активистами веры в имитацию. По понятным причинам — это очень ценные в существующей системе люди, которые фактически являются одним из важнейших столпов в существующей системе вещей.
Все это обычное течение событий, история повторяется. Риск в другом — в неизбежности достижения рано или поздно альтернативного универсального общественного договора снизу. При этом в условиях доступности информации для его возникновения уже не нужно нескольких сотен лет, которые были необходимы для формирования договорной государственности лет 300-400 назад. Очевидно, что этот процесс активно идет, но совсем не очевидно чем он закончится — сценарием установления правил путем разборок, в которых выживает сильнейший, либо сценарием государства-наймита, опыта создания которого на территории не было в новейшее время.
Без будущего
Кризис, которого нет, привел к отказу от планирования в пользу прогнозирования.
С 2016 года все бюджеты будут лишь фиксировать неизвестную ситуацию - от бюджетного планирования решено отказаться. Зато прогнозы теперь будут на 18 лет. Таким образом власть расписалась в том, что не знает, что будет завтра, но зато надеется угадать далекое будущее. Законопроект «об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год» поступил в Госдуму из Правительства РФ 10 сентября. Суть его проста — отказ от бюджетного планирования на два года в пользу верстки бюджетов всех уровней лишь на один год, причем с отменой «бюджетного правила», что на деле означает, что бюджеты всех уровней будут иметь на плановую, а фиксационную природу.
Правительство фактически признало, что не знает, что будет завтра, и предложило отказаться от планов на неизвестное.
Но не от прогнозов — было подписано и еще одно постановление Правительства, которое вводит 18-летний цикл бюджетного прогнозирования. Цели этого решения понятны — Правительство оказалось не готово признать, что запущенная недавно в связи с принятием закона «О стратегическом планировании» футурология в нынешних условиях не имеет смысла. Равно как и реальное прогнозирование — не зная о том, что будет завтра, можно с успехом гадать о послезавтра, рисков в этом нет, так как все прогнозы все равно забудутся. При этом совокупность этих решений лишает каждое из них содержательного смысла по причине того, что бюджетное планирование основывается на бюджетном прогнозировании. Следовательно, отказ от планирования приводит к тому, что реальное прогнозирование становится не нужным ни формально, ни фактически.
Но признать этот факт страшно, так как это означает расписаться в том, что отныне даже формально мы живем без будущего. По этой причине будущее и перенесли — из завтра, где возможна только фиксация сегодня, в послезавтра, которого нет.
То, что будет завтра, не известно ровным счетом никому, так как власть усиленно занимается лишь сущностной заморозкой настоящего, иногда обрамленной в риторику будущего, а экспертное сообщество, которое и является носителем самой импортированной идеи конструирования будущего, неизбежно основывается на простой парадигме наличия нулевого эксперта, то есть, вынуждена признавать, что решения принимаются рационально и на основе логики и экспертизы. В качестве такого нулевого эксперта, по идее, и выступает власть, которая, согласно самой экспертной концепции,интегрирует экспертизу и на основе интегрированного знания принимает решения.
Очевидный факт того, что это не так, теперь оформлен законодательно. Получается замкнутый круг — признано, что нет экспертизы завтра, но оставлено пространство для экспертизы отдаленного будущего.
Впрочем, парадокс здесь кажущийся. Дело в том, что экспертное пространство, оперирующее с «когда-то, неизвестно когда, позже», необходимо для рационализации нулевого эксперта, чтобы сохранить хотя бы видимость управляемости не только здесь и сейчас, но и в неком будущем, которое, ввиду того, что мыслится как пролонгированное в бесконечность настоящее, конечно же, никакого нулевого эксперта не требует.
Возникает парадокс — нулевой эксперт для обоснования своих решений ссылается на мнения экспертов из созданного пространства, которые оперируют на основе решений, которые, якобы являются следствием экспертизы нулевого эксперта.
Пустота возникает из пустоты на пустом месте, создавая видимость заполненности. В этом разрезе оба постановления можно рассмотреть как дуальную пару, инь и янь актуального законотворчества. Вынужденная практическая сторона — это
прямой призыв к отказу от планов и признание того, что никто ничего не знает и не понимает, а столь же вынужденная формальная сторона — призыв оформлять это глубокое незнание, чтобы имитировать знание, но без рисков, — в будущем, которого нет.
Куда исчез откат?
Давно ли вы давали взятку или платили натуральный откат в виде конверта благодарности? Давно? Все правильно - один из главных столпов российской государственности куда-то исчез. Куда и почему?
Процесс этот начался уже достаточно давно, причем с осваивания бюджетного ресурса. На смену механизму «бюджетный ресурс за откат» пришел механизм «бюджетный ресурс для своих», для реализации которого и были сформированы первые серьезные корпорации из чиновников и структур, которые обеспечивали видимость успешного освоения этого ресурса для его генерального распределителя, а также обосновывали необходимость его выделения и обеспечивали рабочие механизмы сдачи с его раздачи.
Подобные механизмы, согласно арбитражной практике, уже 57 лет назад начинали принимать весьма инновационные формы, но внешне не переходили границ дозволенности, заданных Гражданским кодексом и набором нормативных актов, регламентирующих деятельность муниципальных и областных чиновников.
Организационно такие структуры предпочитали и предпочитают мимикрировать под бизнес - «священную корову» рынка, хотя, конечно, действовали и действуют вовсе не в условиях «свободной стихии рынка», а в условиях несвободной стихии административного торга, основанного на статусном весе участников процесса, интегрально выражаемого (через полезность для решения вопросов) как степень уважения.
Уже на этом этапе борьба с коррупцией перестала быть актуальной, так как само явление коррупции перестало существовать в тех формах, которыми обычно описывается — частные преференции сменились корпоративными интересами, а преимущества в рыночной конкуренции за бюджетные средства, которые и призвано обеспечивать явление коррупции, оказались заменены на корпоративные преимущества, которые обеспечиваются исключительно лоббистскими возможностями одних участников корпорации на основании обоснований, подготовленных другими.
На этом коррупция (если она и была) кончилась, оставшись лишь на бытовом уровне, где таковой она не осознавалась и не осознается до момента очередной волны борьбы с коррупцией, которая неизбежно сопровождается спусканием целевых индикаторов борцам с ней.
Для их исполнения коррупцию надо искать и находить, поэтому она оказывается перманентным конструктом самих борцов, которые вынуждены интерпретировать обычные статусные отношения как несуществующее явление коррупции для того, чтобы выполнить план по борьбе с ней.