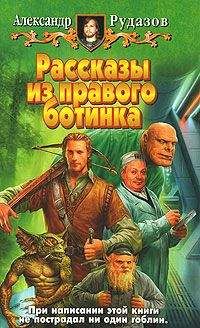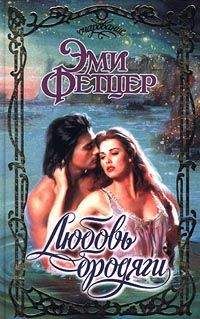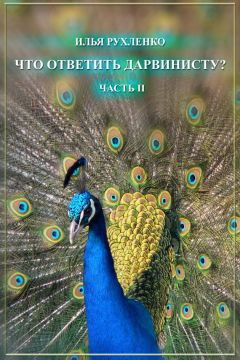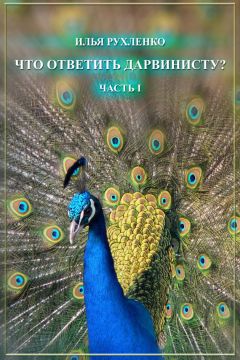Александр Павлов - Демон перемен
Работные избы, доходные дома и ремесленные кварталы: из населенных на территорию активно формируются новые слободы. Но города от этого не случается.
В Татарстане есть замечательный поселок, который называется Камские поляны. Если не знать о его существовании, то при проезде мимо вполне можно принять его за мираж. Хорошая трасса среди бесконечных однообразных полей, скорость за сто двадцать. Внезапно прямо посреди поля возникает современный микрорайон с домами 90-й серии. Классика советской комплексной застройки — пристроенные универсамы, учреждения соцбыткульта, типовые административные здания. Около обочины въездной знак «Камские поляны». Через десять секунд все кончается — вокруг снова возникает поле. Было ли, аль показалось? Было, и не показалось. Камские поляны строились как город атомщиков вблизи АЭС. Прямо посреди поля, в нескольких десятках километров от ближайших городов. Но атомной слободы не получилось — АЭС (того же типа, что и Чернобыльская) так и не достроили, а люди остались.
Подобных объектов, оставшихся в наследство от советской административно-ведомственной системы расселения, множество - более трети всех городов. Их ныне положено спасать, а спасаемым гордиться статусами, которыми наделяются такие поселения либо государством, либо самими жителями в процессе спасения: моногород, поселок атомщиков, наукоград, ЗАТО и так далее. В идеале гордость должна сопровождаться и потоком федерального финансирования. Все эти жилые точки — не поселения, а населенные пункты. В них люди не поселялись, их населяли. Процесс выглядел следующим образом: ведомство выбирало на карте пункт, в этот пункт административно населялись трудовые ресурсы, а для их обеспечения создавалась «система социально-бытового обеспечения». Процесс населения и обеспечения был унифицированным: и на дальнем севере и на близком юге использовались те же типовые проекты, отличающиеся лишь нюансами, связанными с неизбежностью признания влияния природных условий. Но административная карта всегда была важнее территории: пространство на бумаге неизбежно выглядит однородным. Бумагу наполняла не география, а сеть пунктов наполнения. Населенных пунктов.
Городов как поселений в этой логике существовать не могло. Любой крупный город неизбежно редуцировался до набора населенных пунктов — ведомственных слобод, административным идеалом стремлений которых являлась ресурсная автономность. И этот идеал успешно воплощался в жизнь: отдельные ветки финансирования от профильных министерств, отдельные системы ресурсообеспечения и ресурсовоспроизводства, автономные модели снабжения. То, что подобные слободы оказывались близко друг к другу, никакого сугубо городского наполнения не несло — функциональной разницы между их постройкой в чистом поле либо вблизи других слобод не было. Значимую роль лишь играло соответствие количества и статуса населенных на территорию её административному весу. Таким образом, основной функцией города в подобных системах оказывалось поддержание и усиление административного статуса, для чего распорядители территорий старались придумать самые разнообразные основания.
Слободы наследовали внутреннюю иерархичность родительских ведомств. До уровня директора и его первых замов абсолютно четко соблюдался принцип, который очень метко выразил географ Владимир Каганский: «место в пространстве равно статусу в государстве».
Место в населенном трудовыми ресурсами пункте в полной мере соответствовало ведомственной иерархии — начиная от уровня «директорских» домов, заканчивая распределением квартир по этажам и площади. Директорам во всех крупных городах полагалось селиться в центре в том случае, если слобода не оказывалась полностью автономной. Таким образом подчеркивался их статус ответственных за получение внешних ресурсов. Инерции подобной системы расселения хватило до середины 90-х. Потом постепенно наступило состояние, которое с точки зрения привычной статусности выглядело анархией. Жалобами на беспредел, вызванный вселением в привычные населенные точки «торгашей и коммерсантов», были завалены редакции провинциальных газет, а рефлексия процесса как редукции несправедливости на пространство расселения, занимала важное место в тогдашней общественно-политической повестке.
По мере неизбежного развала системы расселения, которая тянется до сих пор, страсти улеглись, что хорошо заметно по расширению спектра употребления фразы «рынок недвижимости», но никакой новой населенческой структуры долго так и не появлялось. Города с распадом смыслов населенных пунктов не случилось, но и новых слобод не получалось. Жизнь без каркаса — жизнь без статуса. Судя по всему, анархия расселения заканчивается. Процесс идет одновременно с активным формированием из населенных на территорию двух основных групп: народа, который является объектом управления и заботы власти, и активного населения, которое выживает самостоятельно. При этом происходит наследование не советских, а еще дореволюционных практик расселения.
Как известно, до революции не существовало такого института как право собственности на квартиры. Напрямую квартиру купить было невозможно, в ней можно было лишь разместиться. Размещаться можно было самостоятельно за деньги, путем съема жилья в доходных домах, либо размещение могло входить в набор благ, которыми обеспечивалось служение или работа (расквартирование солдат, чиновников, рабочих или служащих). При этом наделение благом квартиры вовсе не всегда было безденежным. Права собственности в современном понимании (т. е. как совокупности возможностей абсолютно самостоятельного распоряжения) существовали лишь на отделенное имущество — отдельные здания и усадьбы. В домах (с усадьбами и без) уже, соответственно, не размещались, а проживали или промышляли.
Существующие историко-антропологические исследования показывают, что тогдашние слободы формировались в первую очередь за счет усадеб и по цеховому принципу.
Ремесленная слобода — набор частных домов с работными избами, в которых занимались ремеслом, кирпичная слобода — набор частных домов с кирпичными ямами для замеса глины и так далее. Исключений в виде промысловиков, размещающихся на квартирах, в провинциальных городах было немного. Подавляющее большинство тех, кто работал самостоятельно, жили в собственных усадьбах, где осуществлялись и домашние промыслы, в которых могли участвовать работники (а не рабочие). А вот люди, которые осуществляли разного рода служения, либо работали по найму (т. е. были рабочими), расквартировывались.
Очень близкие практики наблюдаются и сейчас, причем не без участия государства, реализующего помощь застройщикам под соусом декларируемой заботы о народе. Речь идет о разнообразных мерах государственной поддержки расквартирования, запущенных в последнее время: ипотека с государственным субсидированием, «Жилье для российской семьи», региональные программы субсидирования первоначального взноса по ипотечному кредиту для чиновников и служащих и так далее.
Все эти программы ориентированы исключительно на народ (за небольшим исключением многодетных семей, которые, впрочем, тоже рассматриваются как служащие государственному делу воспроизводства трудовых ресурсов). Активному населению приходится довольствоваться «рыночными» условиями — покупать квартиры, а не расквартировываться, но эта стратегия перестала пользоваться широкой популярностью вне сегмента элитного жилья.
Оказалось, что основными «покупателями» квартир в реализованных в последнее время проектах комплексного жилищного строительства стало две категории людей: «инвесторы», нацеленные на сохранение денег, и народ, который воспользовался возможностями льготного расквартирования. Для коего в ряде случаев не нужно даже начальных денег. Нужно лишь оплачивать расквартирование, что внешне выглядит как уплата ипотечного кредита с субсидированием процентной ставки.
Активное же население, которое выживает самостоятельно, а не осуществляет служения, в последние 2-3 года избирает иную тактику — переселяется в частный сектор, причем зачастую строится самостоятельно. В оборот строительства оказались включены и дачные участки, количество обитаемых домов на которых за последние четыре года выросло не менее чем вдвое.
Основных поводов для выбора такой стратегии два — желание быть максимально независимым от государства (в том числе и от сферы ЖКХ, которую никто и не думает воспринимать как частный бизнес) и необходимость интеграции распределенного жилья для удобства ведения промыслов и выживания путем самообеспечения. Работную избу проще пристроить к собственному дому и спокойно работать, нежели ездить работать в гараж или на базу.