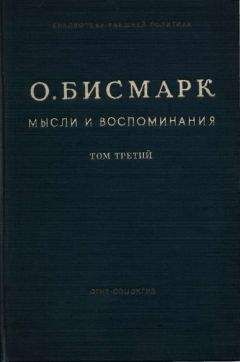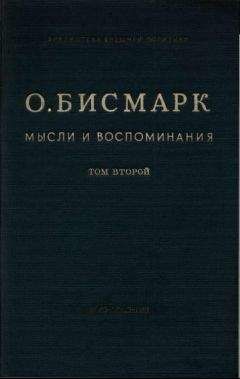Йоахим Радкау - Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера
Карьера «нервов» как понятия
Под словом «нервы» даже в Новое время еще долго понимались мускулы и сухожилия. Обозначать тонкие передатчики возбуждения они стали только в VIII веке, и это изменение пришло из Британии. Мгновенную популярность нервы обрели в 1765 году благодаря книге шотландского врача и физиолога Роберта Уитта[22]. Как писал один из учеников Уитта, даже те, кто прежде понятия не имел о своих нервах, жадно ухватились за это слово. Оно сумело вобрать в себя и выразить широко распространенный опыт. Человек сегодня уже немыслим без нервов. Но как именно концепт нервов изменил его самопознание? Еще в XVII веке открытие Гарвеем кровообращения укрепило давнее представление о сердце как источнике жизни. Теперь «нервы» поместили в центр тела свой основной узловой центр – мозг. А также вдохнули жизнь и в периферию. Нервы стали претендовать на роль средоточия жизненной силы: в конце XVIII века распространилось мнение, будто сущностью жизни является возбудимость. Однако уже скоро нервные волокна, эти нежные структуры, оказались особенно шаткими. Кристоф Гуфеланд[23] в 1812 году писал, что никогда еще нервные болезни не были явлением столь частым как сейчас и едва ли встретишь теперь болезнь без «участия нервов в виде судорог или чего-то подобного». Мишель Фуко рисует карьеру «нервов» как революцию в медицине: «новый мир» нервных заболеваний развернул «собственную динамику». Она повлияла не только на медиков, но и на пациентов, на их манеру описывать свои страдания.
Герд Гёкеньян считает время с XVIII века по сегодняшний день «нервным периодом в истории тела». Правда, под «нервами» XVIII век разумел нечто иное. Так, еще где-то в 1790 году «прототипом нервного заболевания» считалась астма. Под личиной «нервов» отчасти продолжалось прежнее учение о соках; люди представляли себе нервы по аналогии с кровеносными сосудами как трубки, по которым циркулирует «нервный сок». Поскольку черепно-мозговые и спинномозговые нервы окружены подвижной жидкостью, такое представление не было отвлеченным рассуждением. Между сосудистой недостаточностью и нервной слабостью еще и в течение всего XIX столетия видели тесную связь, особенно у женщин; «через боль нерв как бы молит о здоровой крови», если он реагирует со сверхчувствительностью, согласно учению Морица Ромберга[24], основателя немецкой неврологии (см. примеч. 17). Для тех, кто видел в нервах основу жизненной силы, спинномозговая жидкость была особым соком, подчинявшимся собственным законам, как сперма. Поскольку для движения жидкости нужно время, становилась понятной замедленность телесных реакций: такое восприятие нервов соответствовало стилю эпохи, еще не завороженной скоростью.
Столь же долго сохранялось представление о близости нервов и мышц; такие понятия как «нервное напряжение», «вялые нервы» и «нервная слабость» существуют и поныне. Nervig означало «мускулистый». Пока люди представляли себе нервы как мускулы, они почти автоматически приписывали слабые нервы женщинам. Однако около 1900 года такой уверенности уже не было. Тот, кто воображал себе нерв как жилу, легко ассоциировал его с тетивой лука или струной скрипки: это подходило к «напряжению» и «возбудимости» нервов и объясняло, почему длительное напряжение приводит к слабости и вялости. Если в конце XIX века кого-то занимали собственные нервы, то всегда существовал некоторый выбор, как именно их трактовать.
Новая эра началась после того, как в революционном 1789 году Луиджи Гальвани открыл явление животного электричества. Нервы наэлектризовались, а «нервное напряжение» объяснялось теперь через электричество. Идеи неврологии попали в загадочный мир электричества. Появилось и объяснение молниеносности некоторых нервных реакций, тем более что электрический характер молнии стал известен совсем недавно. С течением времени эти новшества сделали возможным новое чувство нервов и поворот в дискурсе нервов, причем в центре внимания оказались возбудимость и скорость реакции.
В Англии конца XVIII века «новый язык нервозности», как пишет Рой Портер, был «насквозь пронизан классовой предубежденностью»: «нервы» были признаком утонченного общества, занятого интеллектуальным трудом. Но так было недолго – нижние слои тоже овладели «нервами», и медицине пришлось обратиться к ним. Окружной врач из Золингена в 1823 году пишет, что понятие «слабонервность» «в ходу и у благородных, и у ничтожных, даже у неотесанного крестьянина» (см. примеч. 18). Такой же процесс демократизации пережила и неврастения в конце XIX века.
В энциклопедии Крюница[25], которая в 1806 году дошла до буквы «N», nervös все еще означало то же, что nervig: «имеющий многочисленные и сильные нервы». В конце века под «нервозным» подразумевалось уже ровно обратное. В Англии и Франции значение стало меняться уже в конце XVIII века; прошло не так много времени, и те же признаки появились в немецкоязычном пространстве. О нервах говорилось так, будто они уже сами по себе были чем-то болезненным. Окончание – ös придавало прилагательным несколько подозрительный привкус: pompös, ominös[26]. Теодор Фонтане изобрел слово schauderös[27]. Гуфеланд с недовольством отмечал, что если «прежде нервным человеком называли уравновешенного, полного сил сына Адама, то теперь вошло в моду обозначать человеком с нервами существо, которое любое впечатление ощущает тысячекратно, от писка комара падает в обморок, а при запахе розы впадает в конвульсии» (см. примеч. 19). Однако старое значение слова nervös еще долго сохранялось наряду с новым. Даже в 1900 году измученный неврастенией Макс Вебер пишет о потребности много путешествовать, чтобы «целиком отдаться на волю ярким впечатлениям» и тем самым «совершенно окрепнуть нервами». Его представления оставались еще явным продуктом конца XVIII века, когда истоки раздражительности усматривали в вялости нервов, а во внешних раздражителях видели средство их укрепления. Жене Вебера, уверенной в собственной подверженности «нервным нагрузкам», самодиагностика мужа не казалась убедительной (см. примеч. 20).
Не только электричество, но и открытие вегетативной нервной системы растревожило в XIX веке мысли о нервах. Автономия нижележащих регионов человеческого тела несла в себе нечто непристойное: не свидетельствовала ли она о бессилии духа? Людвиг Бёрне[28] в 1836 году, незадолго до смерти от чахотки, сетовал – что толку ему от «ученой церебральной системы»: «Система ганглиев, эта каналья тела человеческого, присвоила себе всю возможную власть», так что его «талантливейшей голове» приходится повиноваться нижележащим ганглиям. Позже хирург Карл Людвиг Шлейх назвал симпатический нерв «карликовым королем души», который и после солидного роста головного мозга человека «вовсю орудует своими бесчисленными карликовыми кулачками» (см. примеч. 21).
Вплоть до начала XIX века концепция нервов укрепляла идею единства души и тела человека, даже если это единство было не вполне совершенным, ведь люди догадывались, что в теле не всегда царила чистая гармония. Определенная идентичность цельного человека все же сохранялась. Шотландский медик, сторонник научного прогресса, Роберт Верити в 1837 году заявлял: «Человеческое достоинство и превосходство покоится на совершенной и неослабной целостности его нервной системы – на суверенитете его воли и интеллекта». Такой «андеграундный» автор, как Маркиз де Сад в своей «Жюльетте» показывает человека как одну сплошную нервную систему, полностью охваченную конвульсиями либидо и абсорбирующую саму душу. Его персонажи с такой чрезмерностью воплощают принцип «жизнь – это возбудимость», что даже постоянный переизбыток похотливой боли, кажется, совсем не потрепал им нервов (см. примеч. 22).
В XIX веке в дискурсе нервов набирает силу страх перед разрушением нервной системы. В середине века ученые не устают открывать новые нервные центры, нервная система все больше напоминает лабильное государственное образование, на периферии которого сплошь автономные или полуавтономные регионы постоянно учиняют беспорядки. Или здесь просто недооценивались возможности управления за счет коры головного мозга? Врач из Дармштадта в 1892 году коротко и внятно констатировал, что «здоровые нервы» имеет тот, «кто ими повелевает, а не управляется ими»: будто бы сама анатомия мозга и нервов допускала обе возможности (см. примеч. 23). В зависимости от ответа на вопрос, как лучше функционируют периферийные нервные регионы – без помех или под руководством коры головного мозга, – невротикам рекомендовали кому расслабление, кому активизацию воли.
Теперь разберемся, как эти учения о нервах влияли на смысловое наполнение самого понятия и его производных в повседневной речи. Ведь на рубеже XIX–XX веков «нервы» и «нервозность» были у всех на устах: «даже детям они хорошо знакомы: сколько чести тебе, если можешь говорить о нервах, как мама – по собственному опыту!» Расхожая присказка того времени «что у ребенка невоспитанность, то у взрослых – нервы» свидетельствует о том, что считаться нервным было не лишено шарма в глазах детей. Это позволяло извинить собственные и чужие дурные манеры, абстрагироваться от них и требовательно ожидать к себе сочувствия. Тот, кто объявлял нервозным своего вечно бранящегося отца, играл роль врача и не воспринимал серьезно отцовский авторитет, связывая при этом одно с другим жестом прощения (см. примеч. 24).