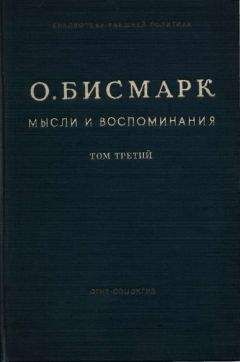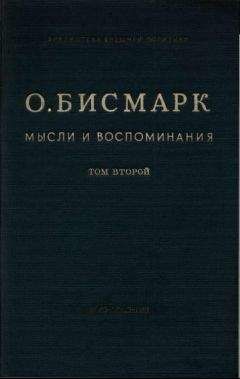Йоахим Радкау - Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера
В рассказе Вильгельма Буша[29] «Бабочка» (1895) некая «дородная мадам» изливает доктору свои муки: «Я не знаю, я все время так беспокойна. Каждый час ночью я слышу, как дудит сторож, и я так боюсь мышей и дурных людей; всему виной конечно нервозность». «Новомодное слово! – сказал доктор. В иных случаях это называли нечистой совестью. Те же симптомы»». Тогда еще помнили время, когда «нервозность» была чем-то новым. Знаменательно, что это слово звучит не от врача, а от пациентки, а врач не особенно высоко оценивает сей неологизм. Заметно, что «нервозность» как субститут «нечистой совести» – это феномен секуляризации языка. Снижение чувства вины в пользу идеи ипохондрии считается общим явлением модерна. Ницше считал очевидным, что христианское «чувство греха и покаянной подавленности» – есть состояние болезненное и нервозное, а знание о том, что у человека нет души, но есть нервная система, «остается уделом лишь немногих самых осведомленных» (см. примеч. 25). Теория нервов предстает атакой на мораль. Некоторые материалисты того времени приветствовали нервы как концепцию, противящуюся старой вере в существование души. Эрнст Геккель[30] считал сознание «неврологической проблемой».
В романе Алисы Беренд «Шпрееман и Ко» (1916) стареющий предприниматель Шпрееман не понимал, зачем «молодым людям вечно надобно все омедицинивать». «Больше всего он сетовал на придуманную нервозность… То, что раньше называли нетерпением или вспыльчивостью, теперь элегантно именуют нервозностью». Фрейд, напротив, в одной из лекций 1917 года замечает, что обыкновенно и, по его мнению, ошибочно «употребляют слова – “нервный” и “боязливый” одно вместо другого, как будто бы они имеют одно и то же значение»[31] (см. примеч. 26). Высокая привлекательность слова nervös кроется не в последнюю очередь в его многозначности, ведь из него можно столько всего сделать. «Я нервничаю». «Ты действуешь мне на нервы». «Не будь таким нервным!» Никакое другое расстройство не способно вызвать такой эффект пинг-понга. Называя кого-то «нервным», можно избежать таких унизительных слов, как «несносный» или «малодушный», оставить открытым вопрос о «трусости» или «вздорности». Но главное – создать ауру чувствительной близости и подспудных намеков. «Нервы» могли указывать как на мозг, так и на гениталии: понятие деликатно оставляло висеть в воздухе обе возможности. В спорах между материалистами и спиритуалистами, соматиками и психиками понятие «нервы» с его психосоматическим семантическим потенциалом могли использовать все стороны. Макс Вебер старался тщательно отделить нервы от психики, когда в 1899 году был вынужден отказаться от чтения курса лекций: «неспособность говорить – явление чисто физическое, нервы отказывают, и при одном взгляде на конспекты лекций я просто лишаюсь чувств»[32](см. примеч. 27). Но в то же время на основе изучения людей «нервозных» развивался психоанализ.
То и дело «нервы» оказывались своего рода шифром. Швейцарский невролог и психолог Поль Дюбуа[33] подчеркивал, что «нервозность во всех своих формах» есть «психоз» и все разговоры о «нервах» – эвфемизм: «Мы легко и без всякого стыда признаем себя нервнобольными, в то время как признание душевнобольным нас коробит». Частные заведения для умалишенных из высших сословий маскировались под «нервные» здравницы. Но поскольку об этом много судачили, какая-то часть табуизированного значения окрашивала и само слово-эвфемизм, так что признание за кем-либо «нервозности» не оказывало ему особой чести. В 1909 году Эрнст Байер, руководитель крупнейшей в Германии народной неврологической клиники[34], заметил, что для «публики» «нервнобольной» – это то же самое, что «душевнобольной», «в то время как настоящий невротик, неврастеник, активно отвергает мысль о том, что является нервнобольным» (см. примеч. 28). Однако это относилось далеко не ко всем – даже здоровые люди в то время считали себя невротичными. Ведь в «нервозную» эпоху нервная слабость формировала в некотором смысле идентичность между Я и миром.
Была и еще одна причина, делавшая нервы привлекательными: они могли подразумевать сексуальность, не называя ее вслух. Когда Макс Вебер, обозначавший свои нервные расстройства «демонами», называл евангелие от Отто Гросса[35], проповедовавшего свободную любовь, «этикой для нервов», идеалом которой был «совершенно банальный здоровый нервный хвастун», – он подразумевал «сексуальную этику» и «сексуального хвастуна». Карл Краус[36] в то время уже вполне открыто использовал маскировочную функцию «нервов», говоря о нестандартных «нервных желаниях», имея в виду гомосексуалистов (см. примеч. 29). «Нервный» дискурс не в последнюю очередь был завуалированным обсуждением сексуальности. Были ли «нервы» в таком случае лишь прикрытием? Иногда да, однако кроется здесь и обоснованное подозрение, что человеческая сексуальность – не автономная зона.
В любом случае сексуальность была возмутителем спокойствия в осознании нервов. С одной стороны, нервная система создавала фундамент для нового эгоцентризма – Я как сложнейшая система! С другой стороны, казалось, что это столь усложнившееся эго находится в стадии какого-то небывалого распада.
Толстокожие люди и стеклянная гармоника: нервная слабость в эпоху чувствительности и романтизма
Мог ли массовый феномен нервозности зародиться еще в конце XVIII века, вместе с «нервным» дискурсом? Это подтвердило бы, что в начале было все же слово, нежели опыт. Как бы то ни было, понятие «нервная слабость» встречается уже тогда. Канадский историк Эдвард Шортер пишет, что уже в конце XVIII века европейцы считали, что живут в «нервном» обществе, и ссылается при этом на немецкого педагога Кампе[37], который в 1787 году говорил о «наших богатых на фантазию и нервные болезни временах» (см. примеч. 30).
Действительно, праформы того, что позже стали понимать как «нервозность», появляются вместе с началами психологического самоотражения. Так, автобиография бывшего священника Адама Бернда (1738) была написана, как следует из ее названия, чтобы передать словами «по большей части неведомый еще телесно-душевный недуг»[38]. Кое-что из этого «недуга» напоминает привычную меланхолию. Сам Бернд воспринимал себя скорее как человека смешанного темперамента, «сангвинико-меланхолика». Глухое, парализующее уныние никогда не захватывало его надолго: в пору своей приходской деятельности это был успешный проповедник в суетном ярмарочном Лейпциге. В чем-то Бернд напоминает современную жертву стресса: уже ребенком он наблюдал у себя навязчивое желание непременно закончить определенную работу к конкретному сроку. Он даже описывает опыт злоупотребления новым наркотиком – кофе: «Голова моя кругом идет, а мысли с огромной скоростью сменяют галопом одна другую, и боюсь, что вот-вот – и силы покинут меня в столь огромной душевной смуте». По сути, он уже рассуждает на стандартную в грядущих дискуссиях о нервном раздражении тему, а именно – почему «слабые нервы» отличаются особой возбудимостью (см. примеч. 31). Стало быть, в каком-то виде «неврастеничный» самоанализ существовал уже в середине XVIII века. Однако это были единичные случаи, и в языке для нового ощущения еще не было собственного понятия.
Для автора рецензии на автобиографию Бернда в 1787 году понятие имелось: с его точки зрения, автор принадлежал к «ипохондрикам». Позже ипохондрия будет считаться наиболее именитой предшественницей неврастении. А до XVIII века и в его начале под ипохондрией понималось расстройство по сути физическое, и если оно и влияло на состояние души, то истоки его все же надо было искать в области желудка. И только во второй половине XVIII века ипохондрия стала все больше смещаться в сферы души, постепенно обрастая современным значением навязчивых воображаемых болезней. С таким расстройством можно было попасть в очень недурную компанию, здесь были и Фридрих Великий, и Иммануил Кант. Шиллер считал ипохондрию «болезнью мыслителей, глубоко чувствующих умов и большинства великих ученых». Он не знал, «в теле или душе» нужно искать «первоисточник болезни», но склонялся ко второму варианту. Точку зрения, что ипохондрия – лишь веяние моды в угоду репутации, никак нельзя назвать общим мнением. Чем больше обнаруживалось связей с психикой, тем настойчивее она ассоциировалась с душевной болезнью. Автор диссертации 1755 года (г. Халле) считал понятие «ипохондрик» едва ли не оскорбительным (см. примеч. 32). Так как одной из причин недуга считался напряженный умственный труд, ипохондрия напоминала более позднюю неврастению, однако здесь еще не преобладало мучительное чувство измотанности и перегруженности.
Известный педагог Иоганн Бернхард Базедов в 1783 году опубликовал в первом томе «Gnothi sauton», первого в Германии психологического журнала, некоторые «добровольные признания». Так, он сообщает, что при желании чего-то добиться ему приходится «работать не иначе как с невероятным напряжением, отнимающим почти весь сон»: «Из-за этого я, в конце концов, впадаю в такое состояние, что боюсь потерять все душевные силы, даже сам разум, если не заставлю себя прервать работу и отвлечься». С сегодняшней точки зрения это классическое переутомление. Однако исполненные трудовой этики реформаторы той эпохи, считавшие праздность корнем большинства недугов и неприятностей, такой диагноз не одобрили бы, так что этот страстный педагог решил в качестве терапии учредить собственное учебное заведение и открыл образцовую школу – школу филантропии в Дессау. Но когда и этот вид терапии оказался непригодным, он стал объяснять свои душевные срывы не трудовым рвением, а меланхолией своей матери! Объяснять разрушение нервов систематическим перенапряжением еще не было привычной практикой, как в конце XIX века. Что касается Базедовской школы филантропии, то, например, Гердеру она казалась «ужасающей», неким «парником», где в нездоровой мере ускорялось умственное развитие молодежи, – такому как Базедов, он «и теленка не доверил бы на воспитание, не говоря о людях» (см. примеч. 33).