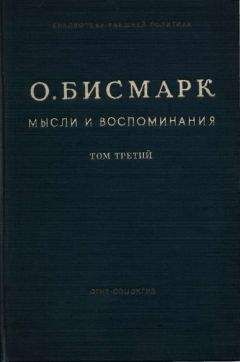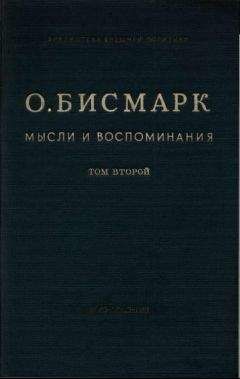Йоахим Радкау - Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера
Нервная слабость вследствие перегрузки: может ли это быть историческим новшеством? Изношенность тела за счет тяжелого труда известна, конечно, всю историю земледелия. Однако мир труда тысячи и тысячи лет находился во власти привычек и подчинялся ритму времен года. В традиционном аграрном обществе зима была временем относительного покоя, а вместе с тем темноты и холода, замирания жизненных соков и меланхолии. Непрестанная работа, напротив, увязывалась с хорошими сезонами: «торопливая страда» была привычной фразой. «Во время срочных полевых работ, – пишет сельский врач в 1905 году, – в сельском населении возникает трудовой порыв, он захватывает и гонит на работу все и вся, что только к нему способно». Даже «нервнобольной», «охваченный трудовым пылом», забывает о своем расстройстве (см. примеч. 3). Таким образом природа управляла психической стороной труда, пока непосильные поборы не парализовали волю к труду.
В городах форма и темп труда даже в XIX веке в значительной степени также регулировались привычками и природными ритмами. Лишь на рубеже веков стали наступать перемены. Невролог Франц Виндшейд в 1909 году отмечал, что «чувство, что не успеваешь что-то доделать» – «один из наиглавнейших источников» «профессиональной нервозности». Психиатр Ганс Бюргер-Принц справедливо называет хроническую боязнь не успеть выполнить повседневные задачи, не справиться или сделать что-то неверно массовым явлением модерна. То же можно сказать о мучительной разбросанности внимания. Вилли Гельпах[16] даже ставил точную дату: «рассеивание нагрузки» стало «всеобщим правилом» «где-то с 1890 года» (см. примеч. 4).
Итак, определенные типы психической нагрузки становятся массовыми лишь в Новое время. Но стоит ли историку переходить на микроуровень и изучать индивидуальные случаи? Может быть, тема требует мегаанализа: поисков психологических инструментов для теорий модернизации? Разве нервозность не вытекает логически из основных модерных процессов, прежде всего подъема капиталистической конкуренции, индивидуализации, ускорения? Рассмотрим эти процессы внимательнее.
Начнем с причинно-следственной связи между капитализмом и нервозностью: эта связь кажется особенно сильной и бесспорной. Понятно, что конкуренция и ставка на высокие показатели, слияние рисков и шансов, подъемы и спады конъюнктуры, суетные вибрации биржи, тенденция к перманентным инновациям – все это означало для множества участников и жертв этих процессов аномальную нагрузку. «Щекочущее напряжение», по словам Фернана Броделя, пронизывает уже торговый капитализм раннего Нового времени (см. примеч. 5). В таком случае та «борьба за существование», на которую жалуются авторы трудов по нервозности, в конце XIX века новостью не была.
Но целиком и полностью свободный рынок существует только в экономической теории, а не в исторической реальности. Стремление к безопасности было всегда слишком сильным, и потому субъекты экономики во все времена проявляли замечательную изобретательность, как только им угрожала неопределенность тотальной свободы: вступали в действие привычки, договоренности, семейные связи, картели, закрытие национальных и региональных рынков. Постоянные инновации далеко не всегда служат жизненным законом капитализма, как считают экономисты-теоретики. Закон инерции и здесь проявлял свою силу, и в научных трудах его действие нередко обнаруживается между строк.
Но в конце XIX века экономические отношения в Германии становятся все более бурными, стереотипная жалоба на «травлю и охоту» была не пустой фразой. Как писал в 1911 году исходя из собственного опыта социолог и философ Макс Вебер, на рубеже веков из-за обострения конкуренции многие индустриальные предприятия, которые еще недавно почти не занимались учетом прибыли, были вынуждены перейти к строгим калькуляциям своих доходов. Эти тяжелые времена оставили свой след в нервных клиниках – как, например, в истории текстильного фабриканта из-под Аахена, 51 года, в 1907 году прибывшего в санаторий Бельвю[17] на Боденском озере: «Пациент с 14 лет постоянно перенапряжен […] повсюду ощущает беспокойство, “нигде не задерживается надолго”, меняет врачей и курсы лечения». Его родственник уверяет, что для экзистенциальных тревог фабриканта в принципе нет оснований, все дело только в том, что смена эпох отняла у него чувство безопасности: конкуренция в текстильной сфере лишила ее былого уюта и повлияла на рентабельность. «Пережить этот факт (он) не в силах, и это его постоянно злит и мучает». И теперь он «из каждой мухи делает слона» (см. примеч. 6). Даже когда дела шли хорошо, новые обстоятельства – необозримость экономики и постоянная необходимость держать уши востро – оборачивались для чувствительных натур вечной мукой.
Капитализм влияет на психику не только своим давлением, но и заманчивыми перспективами – сулит новые шансы и создает новые потребности. «В начале была Англия. И удовлетворенность ушла из этого мира», – лаконично комментирует один эконом начало индустриальной революции (см. примеч. 7). Не случайно в XVIII веке нервные расстройства нового типа фиксировались как «английская болезнь». Хроническое недовольство объясняется самой сутью денег: ведь она заключается не в исполнении определенного желания, а в создании шанса для удовлетворения любых потребностей. Деньги становятся материальным фундаментом для состояния, в котором человек испытывает постоянные смутные вожделения.
Тем не менее в истории деньги не всегда и не автоматически играли такую роль. Зачастую они служили в первую очередь, для того чтобы удовлетворять привычные и заданные потребности. Но были исторические фазы, когда заложенная в деньгах психодинамика обострялась; эпоха нервозности явно была именно такой фазой. Главный социолог модерна Георг Зиммель в «Философии денег» (1900) дал тогда классическое определение ментальных последствий монетаризации, затронув самый центр мира нервов: например, когда описывал, как деньги ускоряют «темп жизни» и производят вечный непокой, вечное метанье между множеством разнообразных желаний (см. примеч. 8).
Индивидуализация – из этого секулярного процесса тоже вполне логично проистекает нервозность. Если исходить из того, что в течение Нового времени индивид покинул уютный и обыденный мир заданных социальных порядков, то это означает, что уже за счет секулярных тенденций он попал в тревожный новый мир ненадежных норм, где нет постоянного распределения социальных ролей, где нужно обо всем заботиться самому и нести собственную ответственность. И поскольку с другими людьми происходит то же самое, то столкновения различных жизненных проектов становятся все более жесткими и судорожными. Психический стресс – так можно было бы продолжить – набирает силу благодаря растущей вместе с ним рефлексии. Мало того, что место, где ты находишься, объективно небезопасно, – психическая неуверенность нарастает еще и благодаря эгоцентризму, хаотичным размышлениям о небезопасности. Поведение, в котором человек руководствуется инстинктом безопасности, осталось в прошлом. Человек вечно сомневается: правильный ли он сделал выбор – будь то профессия, партнер или образ жизни – и отвечает ли он соответствующим требованиям. Внешние принуждения сменяются самодисциплиной. Однако воспитание дисциплины в самом себе идет далеко не гладко, тем более в мире, который все усложняется и подает личности все более противоречивые сигналы.
Но и индивидуализация не настолько связана с модерном, как часто думают. Уже средневековые монахи предпочитали индивидуальный образ жизни: стоило ослабеть дисциплине орденов, как монастырские общественные помещения опустели (см. примеч. 9). Вместе с тем и в Новое время процесс индивидуализации был не единственным, у него были конкуренты, его сопровождали противоположные тенденции социализации. Достаточно вспомнить, что на протяжении большей части истории человечества в регионах с холодной зимой множество людей просто чисто физически не могли себе позволить образ жизни на большой дистанции от своих домочадцев. Топили только дровами, и дрова стоили дорого. Даже если в царстве идей набирал силу индивидуализм, то в реальности стужа заставляла людей жаться друг к другу.
Однако со второй половины XIX века, когда за счет массовой добычи каменного угля отопление стало дешевле, телесная дистанция стала расти. Теперь можно было совсем по-другому прочувствовать и стыдливость, и страх заражения, и эгоцентрическую возбудимость, и одинокие фантазии. Однако стабильные формы жизни выросли из этого далеко не так скоро – жизнь в одиночку становилась нормой долго и постепенно. Мать 25-летнего электротехника, уже побывавшего в Америке и попавшего в санаторий в 1901 году из-за неврастении, считала его «идею жизни в одиночку» ошибкой, хотя сын тосковал по автономии и связывал с ней мысль о «неуютной chamber gar nie[18]». Пауль Мёбиус[19] из собственного опыта рассказывал о жалкой холостяцкой жизни в съемных комнатах – недаром здесь так много нервных: «вскоре на тебя начинает давить нужда, отвращение к этому жилью и его хозяевам, кабакам, нехватка пуговиц на рубашке и прочее и прочее». Типичные обитатели меблированных комнат совершенно беспомощны перед уличным шумом, детским криком и бренчанием пианино (см. примеч. 10). В семьях индивидуализм тоже набирает силу; но пока в игру не вступили соответствующие виды толерантности, потребности личности были источником внутрисемейных трений. Невролог Вильгельм Гис-младший[20] видел подлинную причину нервозности в «субъективизме, который все и вся обращает на собственную персону, ее благополучие и чувственное наслаждение». Однако не одно наслаждение: в истории болезни одного неврастеника, юриста 23 лет, им самим написанной на 55 страницах, повторяется жалоба на «чувство, что толком не знаю, где я», и поэтому ему все время страшно (см. примеч. 11).