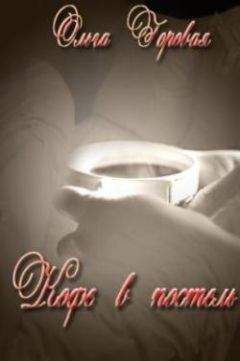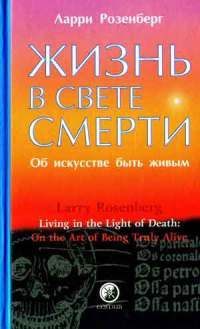Поль де Крайф - Борьба за жизнь
И, однако же, Ландштейнеру, при всем его тонком умении пользоваться высокосильными микроскопами, не удалось найти никакого микроба ни у мертвой, ни у больной обезьяны. (И до сих пор это еще не удалось ни одному исследователю, хотя некоторые думали, что нашли его, но это всегда оказывалось ошибкой.) На основании остроумнейших измерений того, что они не могли видеть, и с помощью догадок исследователи пришли к выводу, что величина этого мельчайшего микроба должна быть меньше одной миллионной части дюйма. Единственным его жизненным признаком является, по-видимому, отвратительная способность размножаться до бесконечности в телах своих человечьих (и обезьяньих) жертв. Возможно, что это только субмикроскопическая частица белкового вещества, стоящая на таинственной грани, которая отделяет мертвую материю от мельчайших живых существ...
Но тут уже начинается философия, которая непосредственного отношения к борьбе за жизнь не имеет. Пока же у нас имеется один научный факт, крепкий, бесспорный и утешительный: Ландштейнер затащил болезнь в лабораторию! Он мог теперь поддерживать ее в лабораторных условиях, для чего ему нужны были только макаки и павианы на роль мучеников науки. Все, что требовалось Ландштейнеру, - это со всяческими бактериологическими предосторожностями взять кусочек разрушенной ткани из спинного мозга издыхающей обезьяны, приготовить из нее бульон, набрать этого бульона в шприц, просверлить дыру в черепе здоровой обезьяны и впрыснуть ей в мозг это ядовитое вещество. Вот и все. Потом опять сначала: из спинного мозга в головной, из головного в спинной, из спинного в головной и так далее до бесконечности... Таким образом он мог убить или парализовать всех обезьян на свете, если бы пропустить их через его лабораторию.
Уже с самого начала этого бесспорного успеха можно было предвидеть, что он не означает еще немедленной победы над врагом. Болезнь, которую Ландштейнер перенес от бедняги Фрица к обезьянам, была, конечно, детским параличом. В этом не могло быть сомнений. Но у обезьян болезнь протекала не совсем так, как у детей. Она была для них более опасна. Девять из десяти обезьян, которым Ландштейнер впрыскивал в мозг невидимую заразу, погибали. Между тем при самых жестоких эпидемиях умирало не больше пятнадцати детей из ста. Для детей болезнь была заразна. Для обезьян ничуть. Обезьяны крайне нечистоплотны, как справедливо указывает немецкий ученый Ремер. И, однако же, здоровых обезьян можно было совершенно безнаказанно держать в одной клетке с больными и умирающими. Таким образом, приходилось признать факт: блестящие опыты на обезьянах ни в коей мере не объясняли загадку заразительности болезни для детей.
Открытие Ландштейнера заставило все лаборатории Европы и Америки, то есть не все, конечно, а только те, которые располагали деньгами на покупку обезьян, горячо взяться за исследовательскую работу. Несчетное число мартышек и павианов потребовалось заразить, парализовать и убить, для того чтобы установить следующий обнадеживающий факт.
Если обезьяна перенесла атаку детского паралича, но не умерла, то после этого можно заражать ее сколько угодно: в огромном большинстве случаев она не подвержена вторичному заболеванию. Она делается иммунной и может до конца жизни наслаждаться тем параличом, который она получила. Так что, в конечном счете, у болезни оказалось слабое место. И это было в равной мере действительно как для обезьян, так и для детей, потому что Викман, например, ни разу не видел, чтобы ребенок заболевал вторично. В этом отношении болезнь ничем не отличалась от других излечимых инфекций, скажем, от тифа или дифтерии. Нельзя ли в таком случае обратить это слабое место против самого микроба? Нельзя ли проявить в отношении его такую же ловкость, какую проявили Дженнер[5] против оспы и Пастер против бешенства?
VА что ж, это вполне возможно. И в лабораториях закипели планы новых, смелых экспериментов. Однако же в одном отношении детский паралич резко отличался от тифа и дифтерии. Эти болезни поддаются лечению прежде всего потому, что их микробы можно видеть через микроскоп. Эти микробы можно найти даже у совершенно здоровых людей, которые, сами не болея, являются опасными переносчиками заразы. А при детском параличе? Как можно найти то, чего нельзя видеть?
Тем не менее благодаря открытию Карла Ландштейнера о восприимчивости обезьян в 1909 году лаборатории всего мира были охвачены исследовательской лихорадкой. Блестящим фейерверком посыпались новые факты из тех лабораторий, которые были достаточно богаты, чтобы обеспечить себя обезьянами. Было установлено, что микроб детского паралича может проходить через тончайшие фарфоровые фильтры, которые задерживают все видимые микробы, что он может жить месяцами в крепком глицерине, что он чрезвычайно устойчив против высушивания. Кроме того, исследования детских трупов и неисчислимого количества мертвых обезьян с очевидностью доказали, что разрушительное действие крошечного микроба сказывается главным образом, - пожалуй, даже исключительно, - на нервных тканях спинного мозга и нижней части головного.
Но каким образом этот микроб проникает в организм ребенка, чтобы произвести в нем подобное разрушение? Где входные ворота для инфекции? С первых же дней исследовательской горячки охотники за микробами почти вплотную подошли к разрешению этой загадки. Флекснер и Льюис вводили небольшие тряпочки, пропитанные паралитическим ядом, глубоко в нос здоровым обезьянам. Обезьяны погибали от детского паралича. Затем они еще лучше обставили этот опыт - проделали его в обратном порядке: они впрыснули заразу прямо в мозг здоровым обезьянам. Через несколько дней, когда болезнь начала развиваться, они увидели, что зараза уже проложила себе путь наружу: она просочилась из мозга в носовые полости этих больных обезьян!
Было ли это объяснением того, каким образом болезнь переходит от ребенка к ребенку? Можно ли было сказать, что это единственные ворота входные и выходные - для крошечного паралитического микроба?
Увы, этот намек на второе слабое место паралитической заразы потерялся и утонул в шумихе других многочисленных опытов, и некоторые из этих опытов казались обещающими. Уже тогда, в 1909 году, мелькала надежда, что можно найти какую-нибудь спасительную вакцину. Бывали случаи, когда исследователи впрыскивали заразу в мозг обезьянам, и у какой-нибудь из них почему-то не развивались признаки болезни. Они делали ей повторное впрыскивание, и иной раз она заболевала и умирала, а иной раз оказывалась совершенно невосприимчивой. Может быть, это первое впрыскивание, вместо того чтобы убить ее, каким-то таинственным образом давало ей сопротивляемость? Да, может быть. Но что ж из этого? Чему тут особенно радоваться? Какой сумасшедший осмелится впрыскивать ребенку опасную заразу в расчете на то, что она не убьет, а защитит его?
Но в этом был все-таки луч надежды. Разве Пастер не превращал смертоносный, насыщенный бешенством спинной мозг кроликов в жизнеспасительную вакцину путем высушивания его? Разве гениальный англичанин Дженнер не превращал сильный оспенный яд в важнейшее предохранительное средство, пропуская его через организм коровы? Ведь это же факты! И целый ряд самых хитроумных опытов был проделан нашими следопытами науки в Нью-Йорке, Париже, Вене и Марбурге. Они брали кусочки нервных тканей из позвоночников парализованных, умиравших обезьян; они высушивали их, кипятили, смешивали с химическими веществами и сыворотками, стараясь как-нибудь ослабить их ядовитость и превратить их в спасительную вакцину.
Успехи, надо сказать, были небольшие, в смысле спасения обезьян. То, что обладало достаточной силой, чтобы привить обезьяне иммунитет, часто обладало еще большей способностью парализовать и убивать ее. Это было мучительное хождение по канату. Во всяком случае, нечего было и думать делать пробу на детях. В этом исследовательском рвении наших ученых была большая доля донкихотства: полная неприменимость на практике всякой вакцины, если бы даже удалось открыть ее, была очевидна. Единственным источником микробов был спинной мозг больных и умиравших обезьян. Где же взять денег на такое количество обезьян, чтобы обеспечить предохранительной вакциной сотни тысяч детей? Кроме того, при всякой эпидемии паралича заболевает только незначительный процент детей. А прививки не могли быть безвредны. Неужели родители, зная, что при самой жестокой эпидемии имеется всего один шанс из ста заболеть, неужели они позволят сделать своему ребенку прививку?
Не забудьте, что в те времена болезнь еще только начинала превращаться в страшное бедствие, каким она является теперь; тогда еще сотни тысяч детей не ходили на костылях и десятки тысяч не умирали от детского паралича, как теперь.