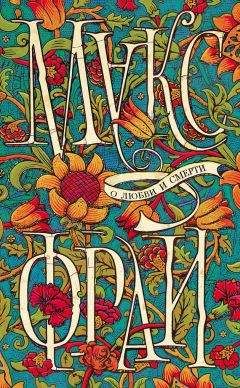Валерий Мильдон - Санскрит во льдах, или возвращение из Офира
У Платонова же, если брать его роман как систему метафор определенного стиля, имеющего широкий, но все же определенный смысл, речь идет о печальном и неконтролируемом понижении человеческой породы: она стала всего лишь частью мира — наравне с животными, растениями, минералами.
Выше я заметил, что один из устойчивых русских архетипов — гносео- и психологических — «отцеубийство», разумеется, не буквальное, т. е. отказ от сделанного отцами — предками. Тех словно и не было, и сын — потомок берется жить сначала, как будто на пустом месте. Отчасти с этим связан другой архетип, имеющий хождение в художественной литературе, — поиск места, где герою было б хорошо (где его нет), иными словами, места пустого. Там герой может делать все так, как ему хочется. Но для этого место и должно быть пустым, иначе не начнешь заново.
Упоминавшийся отказ Чепурного от всемирной истории — одна из разновидностей «отцеубийства» и «пустого места». Другая — сам чевенгурский коммунизм: коммунары ничего не желают делать, возвращаются к первобытным навыкам (собирательству, добыванию огня трением), как если б не было опыта отцов — не говорю духовного, хотя бы технологического.
Если рассматривать чевенгурский коммунизм вариантом «отцеубийства», образ Саши Дванова получает еще один смысл. В детстве герой потерял отца, видит его во сне и хочет, чтобы отец знал, «что
Саша всегда и отовсюду возвратится сюда» (с. 214). Один из его снов: он лежит на коленях отца, и не хочется идти в Чевенгур. Город, а с ним и коммунизм, становится метафорой злодейства, попрания сыновьями отцов, чью судьбу сыновья повторят, когда сами станут отцами. В Чевенгуре действительно прекращается история: ни отцов, ни сыновей, ни жен, ни мужей — одно товарищество (о чем, кстати, мечтал молодой Платонов), и род человеческий приходит в упадок. Чевенгур «населен людьми лишь частично», вопреки коммунистическому гимну, утверждающему, что «воспрянет род людской».
Инстинктивно (в снах) Саша отказывается следовать архетипу «отцеубийства». Исполняя данное мертвому отцу слово, он возвращается к нему — знак того, что близится время, когда отцеубийство станет синонимом «народоубийства», — архетип ведет к гибели народ и страну. Таково вероятное содержание метафоры «отцеубийства» в романе — в противоположность официальному голосу, лозунгам торжества коммунизма и, самое главное, личной убежденности автора.
Наряду с изобилием образов сна, в книге много сцен пробуждения — герои как будто хотят отряхнуть наваждение «сна — утопии». Чевенгур описан как сновидение, реплика Китежа — то‑то вода — одна из главных стихий романа. Чепурный признается Копенкину: «Знаешь, когда я в воде — мне кажется, что я до точности правду знаю… А как заберусь в ревком, все мне чего‑то чудится да представляется…» (с. 195–196).
Другой герой, во всем отличный от Чепурного, Гопнер, тоже испытывает нечто вроде ясности правды, когда сидит возле речки. «Он слушал молву реки и думал о мирной жизни, о счастье за горизонтом земли…» (с. 208). Вода, похоже, открывает им истину: здесь, в этом месте, на земле, жизнь невозможна, только там — вот почему бросился в озеро Сашин отец.
Взяв в расчет все, известное о Чепурном до этой сцены — как трудно ему давалось понимание окружающего, — получим: его точное знание правды напоминает ощущение именно сна, реальность же чудна и мнима. Для него, для героев книги сон есть подлинная реальность, они согласны с прекращением истории еще и потому, что это близко переживаниям сна, от которого они не хотят пробуждаться. Чевенгурская утопия есть сон персонажей, намеренных сделать его явью, превратить утопию в реальность, т. е. не просыпаться, а коль скоро их утопия близка смерти (об этом выше), то их желание принимает зловещий вид: сделать смерть всеобщей реальностью, умертвить все живое. От такого сна/смерти хочет пробудиться Саша Дванов, прийти назад из «страны Офир». Удается же ему лишь вернуться к умершему отцу, но для этого надо умереть самому.
Так постоянно переворачиваются основные метафоры «Чевенгура»: сон — явь, смерть — жизнь. Перевертываемость как явление поэтики, приложенная к описываемой в книге утопии, дает повод утверждать, в дополнение к сказанному: роман Платонова — первая русская литературная утопия, художественно осудившая утопизм в качестве одной из характерных черт народного сознания; автор изобразил утопию разновидностью смерти. Возможно, это следует рассматривать в качестве современной интерпретации европейского утопизма, как оригинальное воплощение хилиазма по — русски: тысячелетнее царство божье (так это изображено писателем: «Изучив статьи (Ленина. — В. М.) «О кооперации», Алексей Алексеевич прижался душой к советский власти… Перед ним открылась столбовая дорога святости, ведущая в божье государство житейского довольства и содружества» — с. 177) оказывается царством смерти. После того, как коммунисты истребили, изгнали из города всех обывателей (очередной шаг по превращению места в пустое), автор говорит:
«Не спавший всю ночь Пиюся встал с отдохнувшим сердцем и усердно помылся и почистился ради первого дня коммунизма. Лампа горела желтым загробным светом» (с. 229).
«Загробный свет» — указание места действия: тот свет, тот мир. Таков один смысл метафоры. Другой едва ли не страшнее первого: сама жизнь превращается в смерть, жизнь есть смерть, страна становится кладбищем, и сделали это ее граждане — коммунисты добровольно, по убеждению.
В таком выводе нет не только ничего натянутого, он — логическое заключение описанного, согласное с метафорами куда более позднего времени. В романе В. Распутина «Прощание с Матерой» (1976) изображена ситуация — продолжение метафоры Платонова, развитие архетипического «отцеубийства»: строители ГЭС требуют переселения жителей одной из деревень, потому что на этом месте разольется вода. Под воду уйдет и кладбище — последняя память об отцах — матерях. Все отобрали у людей, даже мертвых.
В чем же спасение? Не в других порядках, не в другой власти, а в других взглядах, например: отказ от национальных архетипов — «отцеубийства», утопизма, веры в коллективное спасение — коммунизм.
Гибельность утопии, ее метафорическая равнозначность смерти видны и в том, как изображает автор отношения чевенгурских хилиастов к женщине (в значительной степени он передает персонажам свой юношеский опыт «решения», изложенный, в частности, в рецензии на спектакль по роману «Идиот»). «Он (Чепурный. — В. М.) только знал вообще, что всегда бывала в прошлой жизни любовь к женщине и размножение от нее, но это было чужое и природное дело, а нелюдское и коммунистическое; для чевенгурской жизни женщина приемлема в более сухом и человеческом виде, а не в полной красоте, которая не составляет части коммунизма, потому что красота женской природы была и при капитализме, как были при нем и горы, и звезды, и прочие нечеловеческие события. Из таких предчувствий Чепурный готов был приветствовать в Чевенгуре всякую женщину, лицо которой омрачено грустью бедности и старостью труда…» (с. 233).
Чепурный хочет изгнать красоту потому, что она необъяснима, не поддается толкованиям того убогого арсенала, которым располагает его логика. Красота не помещается в чевенгурском коммунизме, и чтобы его не разрушить, Чепурный предлагает отказаться от красоты. («Пусть нам скажут: вы- палачи красоты».)
«Чепурный признавал пока что только классовую ласку, отнюдь не женскую, классовую же ласку Чепурный чувствовал как близкое увлечение пролетарским однородным человеком — тогда как буржуя и женские признаки женщины создала природа, помимо сил пролетариата и большевиков» (с. 233–234).
Красота разрушает однородность (кстати, очень далекая реплика «Города Солнца» Кампанеллы, который требовал казнить женщин, уличенных в использовании искусственных средств для улучшения своей природной внешности). В условиях разного Чепурный не знает, как быть. Примитивная человеческая натура коммуниста — знак коммунистической утопии, объясняющий ее привлекательность: она обеспечивала бытие пониженному (и понижающемуся) человеческому типу, который балансировал на грани между человеческой и животной формой. Хотел или нет Платонов, его собственные суждения о поле как буржуазном пережитке исходили из невысказанных соображений об однородной и примитивной человеческой массе: та в силу своей незамысловатости могла служить материалом грядущего царства.
В чем причина подобных суждений, авторы которых не осознавали последствии своей мысли, будь та реализована? Полагаю (оставив прочие мотивы в стороне), из‑за искажения роли разума в делах человека. Такое искажение возможно там, где разум не имел практического применения, варился в себе, не соизмеряясь с практикой своих рецептов; где поэтому он не знал своих границ и полагал собственные силы безмерными. В России такая фантастическая разумность давала полярные типы: либо романтизм, так сказать, наиромантичнейший (таковы чевенгурские коммунисты), либо прагматизм наипрагматичнейший (таков Шмаков из «Города Градова», думающий над тем, как отменить ночь и продлить рабочее время).