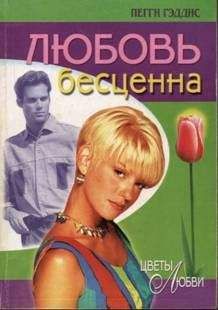Уильям Гэддис: искусство романа - Мур Стивен
Эти эстетические дебаты о субъективности против объективности и легитимности автобиографических мотивов в художественной прозе начались еще в «Распознаваниях», где Ханна возмущалась насчет картины Макса: «Ему пора бы запомнить, что важно не только пережить опыт, но и знать, как с этим опытом обращаться». В третьем романе Гэддис расширяет территорию дискуссии, показывая, как опирающийся на собственную биографию писатель может спутать создание вымысла с созданием себя при помощи вымысла, как актер пользуется гримом для создания новой личности, даже новой жизни. Для Лиз вымысел — это «хоть какая-то надежда на восстановленный порядок, даже в самом прошлом в лохмотьях, переписанном, исправленном, на поверку с самого начала сфабрикованном, чтобы переупорядочить все невероятности, что могло быть». Писательство дает Лиз доступ к той себе, что Билли называет ее «настоящей тайной личностью» — личностью, которую Уайатт старается найти в своих поисках индивидуации, и личностью, утраченной Лиз «двадцать, двадцать пять лет назад когда все еще, когда все еще было таким каким и должно быть». Будучи Биббс для брата, Лиз — для мужа, миссис Бут — для Маккэндлесса, «рыжей» — для Лестера, она сопротивляется фрагментации своей идентичности, настаивая: «Мое имя мое имя Элизабет», и заикающееся колебание подчеркивает, как ей трудно спасать имя своего истинного «я» от мужчин в ее жизни [203]. Неудивительно, что она пишет в тайне; ее рукопись, спрятанная в ящике стола, — метонимия ее тайного «я», спрятанного так далеко от мужа, что он оцепенеет, когда после смерти Лиз наткнется на текст, написанный «почерком, который он знал не более чем по хлеб, лук, молоко, курица?» Ее неспособность писать аналогична ее неспособности жить, что и отражено в названии, которое Гэддис недолгое время рассматривал для романа: «Вот и все, что она написала».
Хотя Маккэндлесс завершил и опубликовал роман, он вышел под псевдонимом; это, наряду с вердиктом Лестера («дрянной»), предполагает, что роману не хватает честности и целостности, к которым автор стремится в жизни. Во впечатляющей апологии он объясняет, что жизнь человека — это своего рода вымысел, который надо создавать так же тщательно, как произведение искусства:
Значение имело только то что я выжил потому что поклялся запомнить что произошло на самом деле, что никогда не оглянусь назад с каким-нибудь романтическим взглядом просто потому что был тогда молодым дураком но что я это сделал. Я это сделал и я выжил, и так было впредь и может это самое сложное, сложнее чем когда в судный день тебя втягивает в облака на встречу с Господом или когда возвращаешься с Великим Имамом потому что эта выдумка (курсив мой — С. М.) только твоя собственная, потому что ты потратил на нее всю жизнь, то кто ты есть и кем был когда было возможно все, когда как ты сказала все еще было таким каким и должно быть как бы мы при первой же возможности ни извратили и потом придумали себе в оправдание новое прошлое.
Если выдумка Маккэндлесса действительно дрянная, то это потому, что ему не удалось сконструировать ее с той же яростной целостностью, с какой он сконструировал «выдумку» самого себя. Подобно хемингуэевскому Фредерику Генри, Маккэндлесс приветствует «факты в защите от ничего не значащих красивых слов», но из цитат Лестера складывается впечатление, что в литературе он предпочел красивые слова. Хорошим прообразом можно считать Робинсона Джефферса — замкнутого современника Хемингуэя, чьи стихи «Мудрецы в час тяжелый» иногда цитирует Маккэндлесс. Джефферсу удалось привнести в свою жизнь такую же яростную честность, как и в свое творчество, — синтез, к которому Маккэндлесс, видимо, стремится, но которого ему не хватает. Если рукопись Лиз — это метонимия ее жизни, то метонимия Маккэндлесса — его кабинет, пыльная, затянутая паутиной, прокуренная комната с книгами и бумагами, где он постоянно пытается прибраться, но наводит еще больше путаницы и беспорядка. Одинокий, без друзей, отдалившийся от сына и бывших жен, он продается ЦРУ за 16 тысяч долларов и в последний раз появляется перед отъездом в тропики, где собственное местонахождение можно определить только по симптомам своей болезни. И снова неудача в искусстве — неудача в жизни.
ВТОРОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: допущение возможности факта, независимо от истинности <юр.>
Маккэндлесс утверждал бы, что религии и метафизические системы — это возможности (в лучшем случае), принимаемые последователями за факты, чья приверженность этим вымыслам — это пародия на стремление художника к постоянству в искусстве:
нет-нет-нет, голос успокаивал, как рука по ее спине, это все из той же вечной чуши, отсюда рождается вся эта чушь про воскрешение, переселение душ, рай, карму вся проклятая дребедень. — Это просто страх сказал он, — думаешь три четверти этой страны правда верят что Иисус жив на небесах? а две трети что он их билет в вечную жизнь? […] это просто паника при мысли о небытии так что в другой жизни присоединиться к тем же мормонским жене и семье чтобы вернуться всем вместе на судный день, вернуться с Великим Имамом, вернуться в виде Далай-Ламы и выбрать себе родителей в какой-нибудь тибетской навозной куче, вернуться чем угодно — псом, комаром, это лучше чем вообще не вернуться, та же паника куда ни глянь, любая безумная выдумка лишь бы продержаться ночь и чем больше притянута за уши тем лучше, как угодно уклониться от единственного совершенно неизбежного в жизни […] отчаянные выдумки вроде бессмертной души и этих проклятых младенцев которые носятся вокруг и требуют родиться, или родиться заново…
Здесь Маккэндлесс дважды использует слово «выдумка» во втором значении по Вебстеру, как и в некоторых других местах: «Говоришь об их глубоких религиозных умозаключениях и вот кто они есть, заключенные в какой-то бестолковой выдумке пожизненно без права на помилование и они хотят чтобы в этой тюрьме с ними оказались все остальные». Принципиальное отличие состоит в том, что литературные и юридические вымыслы вымыслами и признаются; религиозные — нет. Фундаменталисты, по мнению персонажа, подобны плохим читателям, которые сначала принимают вымысел за факт, а затем навязывают другим свое буквальное и ошибочное прочтение — если придется, то и под дулом пистолета. Мало того, что фундаменталисты «сами подрывают ее [Библии] авторитет принимая каждое слово буквально больше чем может надеяться любой воинствующий атеист», — возмущается он (имея в виду непонимание метафор и символизма), но они даже не признают противоречий в Библии, которые заметил бы любой внимательный читатель. Таким образом, статус вымысла и обоснованность интерпретации становятся для литературоведов не просто умозрительными вопросами; когда преобладает фундаменталистское неверное толкование священных вымыслов, которому помогают политики, неверно толкующие свои конституции, всем выдумкам положит конец ядерный апокалипсис.
Весь мир — это текст, намекает Гэддис, а все мужчины и женщины — просто читатели. В «Плотницкой готике» листья дерева за половину предложения успевают стать листьями книги, а простыни, все еще влажные от секса Лиз и Маккэндлесса, в следующем абзаце становятся листами бумаги, влажными от чернил, описывающих события. Герои Гэддиса вынуждены читать окружающий мир, несмотря на неразборчивость «текста». Часы ошибаются, газеты врут, словарь неточен, даже слова путают: Лиз и мадам Сократ спотыкаются о французские омонимы sale и salle (32; ср.c путаницей между sale и salé в Р., 943), ее сбивают с толку два значения слова «морг», а рассеянно прослушав по радио новости о «героической операции Береговой охраны», на следующий день Лиз озадачивается из-за людей, которых «героически спасла передовая охрана». Путаницу вызывают даже отдельные буквы — Пол думает, что Билли не знает, как произносится слово «Будда». Двусмысленность преследует самые простые слова.