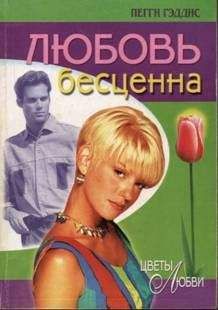Уильям Гэддис: искусство романа - Мур Стивен
Спустя страницу Маккэндлесс подхватывает образ заката из второго катрена:
Наконец осознаешь что не можешь оставить мир лучше чем его принял а можешь только постараться не оставить хуже но они тебя не простят, собираются гурьбой в конце дня как на закат в Ки-Уэсте если когда-нибудь видела? Все туда съезжаются на закат, смотрят как солнце падает словно ведро с кровью и хлопают-ликуют как только оно пропадает, тебя спроваживают с проклятым ликованием и только и рады что больше не увидят.
Но солнце, на которое она подняла глаза, уже пропало, ни следа в матовом небе, и с ним пропал и незаконченный день, оставив только зябкость, знобившую ее тело.
Блестяще дирижируя образами, Гэддис сочетает дословность разговорной обстановки и метафоры из семьдесят третьего сонета с отголоском Откровения, который Лиз подхватит позже в том же разговоре («Апокалипсис, Армагеддон чтобы погасло солнце и море стало кровью»): все это приводит к символическому сопоставлению разложения органического (листья, свет, люди) с культурным и предполагает, что фундаментализм — это злокачественная, но не противоестественная опухоль в теле политики, ускоряющая неизбежный процесс. Первой это заметила Синтия Озик: «Мистер Гэддис работает не столько с «темой» (его темы просты), сколько с теорией организма и заболевания. Мир в «Плотницкой готике» — это ядовитый организм, а человечество гибнет из-за самого себя» [195]. Маккэндлессу «не очень нравится стареть», как позже скажет его первая жена, и не очень нравится наблюдать за распадом цивилизации, но, кроме как яриться из-за затухающего света, он мало что может поделать, чтобы остановить то или другое.
Поскольку сонет Шекспира — своего рода поэма об обольщении, слова «смерть» и «истекать», вероятно, несут в себе вторичное, елизаветинское значение оргазма. Если так, то у этого тропа есть аналог в «Плотницкой готике», где описание Лиз после секса повторяется для описания ее положения в момент смерти. Ее смерть, конечно, нарушает параллели с сонетом, а также с готикой и любовным романом, но она сходится с образом горлицы с первой страницы книги. Глядя, как соседские мальчишки играют мертвой горлицей в бейсбол, «этакий линяющий облачком с каждым ударом помятый волан», Лиз отворачивается, впервые — со зловещим намеком — переводя дыхание. На протяжении всего романа Лиз тесно связана с горлицами и сама похожа на потрепанный волан, буквально — в своих отношениях с Полом, образно — мечась между Билли и Маккэндлессом. Снова преодолевая опасности клише, Гэддис наделяет Лиз всеми символическими качествами голубки (мирность, невинность, мягкость) — она даже плачет, как горлица. Символизм не требует пояснений, но Гэддису снова удается заставить клише работать: когда эта «милая птичка» издает перед смертью «задушенный плач», даже читатель, ожесточенный дикой иронией современной литературы, должен почувствовать, что мир и невинность покинули эту планету навсегда. Воинствующие христиане из романа обращаются с голубем Святого Духа не лучше, а Лиз, погибая в символическом возрасте тридцати трех лет, даже приобретает сходство с принесенным в жертву богом, которому фундаменталисты, по их заявлениям, поклоняются.
Большинство других жанров, занимающих комнаты в творческом доме Гэддиса, можно рассмотреть бегло. Одна сцена, небольшой состав актеров, опоры на посыльных (письма и телефон) и приверженность аристотелевским единствам наделяют «Плотницкую готику» формальным устройством греческой драмы — предмета, который когда-то преподавал Маккэндлесс. Как в адаптации О’Нила или Элиота, в романе Гэддиса есть мрачное наследие отцовской вины, постоянные зверства за кулисами и даже свои Фурии — соседские дети, ухмыляющиеся в окна Лиз. Критик Фредерик Буш нашел несколько параллелей с «Холодным домом» Диккенса — и вполне оправданно. К этой параллели подталкивают гэддисовские инстинкты социального крестоносца, а также диккенсовские имена здешних грязных манипуляторов (Снеддигер, Граймс, Штумпп, Крукшенк, Гриссом, Лопотс). В частности, Гэддис разделяет веру Диккенса в то, что роман — это инструмент, который может улучшить общество, и в то, что семейные ссоры могут быть символом крупных социальных раздоров. Гэддис доходит до того, что поправляет фон Клаузевица: «…Война это не политика другими средствами а семья другими средствами». Африканские эпизоды, о которых сообщают из вторых рук, напоминают романы об англичанах и американцах за границей, начиная с «Сердца тьмы» Конрада и нескольких книг Форстера и Во и заканчивая более поздними романами Грэма Грина, Энтони Берджесса и Поля Теру, не говоря уже о многонациональных политических триллерах более коммерческих романистов. Также «Плотницкая готика» является хрестоматийным образцом «замкнутой» литературы — жанра о визите таинственного незнакомца в закрытое сообщество и вызванном им моральном опустошении, воплощенном в таких книгах, как «Писец Бартлби» Мелвилла и «Человек, который совратил Гедлиберг» Твена [196].
Куда интереснее вклад Гэддиса в жанр литературы о войне во Вьетнаме. О службе Пола во Вьетнаме упоминается лишь эпизодически, но, собрав воедино подсказки, можно реконструировать его опыт — хоть и только отделив «официальную» правду от того, что произошло на самом деле. Каким-то образом ему удалось получить звание младшего лейтенанта, к большому презрению его приемного отца. Тот, как сообщается, сказал Полу, «что ему повезло черт подери отправиться туда офицером потому что рядового из него не получится». Командуя взводом 25-й пехотной дивизии «Молния», он быстро отдалился от подчиненных: «Вся эта армейская хрень про черномазых из Кливленда и Детройта в его никчемном взводе как он их там гонял чтобы показать выучку белого офицера-южанина». Когда он сдал своего помощника, чернокожего девятнадцатилетнего парня по имени Чиггер, за употребление героина, Чиггер «фрэгнул» его, то есть забросил гранату под кровать Пола в казарме неженатых офицеров. Его спас Чик, его связист, и армия скрыла инцидент, обвинив во всем вражеского лазутчика — на этой же версии позже настаивает Пол. Его увольняют в том же звании, в каком он пришел, что свидетельствует о его некомпетентности. Как указывает в другом месте Маккэндлесс, офицеры рады войне из-за «шанса забраться повыше, армия мирного времени сидят там по двадцать лет не дослуживаясь и до полковника но в боях первая звездочка так близка что они слюной исходят». От Пола беременеет его местная любовница, «это был мальчик», узнает он в конце романа.
Пол воспользовался фальшивой репутацией «великого раненого героя», чтобы попасть на работу в «Воракерс Консолидированный Резерв», но и годы спустя, когда начинается роман, его все еще преследуют ужасные воспоминания о Вьетнаме: пулеметный огонь, чуть не разбившийся вертолет и последствия фрэггинга. «Знаешь сколько я сам пролежал? Сколько недель пролежал с осколками в пузе глядя как плазма бежит по трубкам везде, где их смогли в меня запихнуть? Ногами пошевелить не мог даже не знал на месте ли они вообще, чертов медик сломал иглу у меня прямо в руке ее привязали ни шевельнуть ни пощупать внизу, боялся пощупать не оторвало ли мне яйца, яйца Лиз! Мне было двадцать два!» Когда в конце романа на Пола нападает черный девятнадцатилетний грабитель, он видит в его глазах ту же ненависть, что и в глазах Чиггера, и убивает его, потому как «нас не учили драться, нас учили только убивать».
Уже к 1985 году появилось заметное литературное направление, посвященное сложностям, с которыми ветераны Вьетнама вынуждены приспосабливаться к обществу.
Ветеранам Гэддиса (Чику, Врату Раю и Полу) приходится ненамного лучше. Но Гэддис снова разрушает клише и изображает Пола виноватым в своих трудностях. Он не только навлек на себя фрэггинг, но в каком-то смысле присоединился к врагу — не к вьетконговцам, а к Воракерсу, Адольфу, Граймсу и другим воротилам. «Черт подери Билли послушай! Те же самые сукины дети сослали меня во Вьетнам!» Его жажда престижа и денег так сильна, что Пол охотно переступает через возмущение и встраивается в ту самую структуру власти, которая чуть его не убила, заодно поступаясь и сочувствием, какое мог бы заслужить за пережитые во Вьетнаме тяготы.