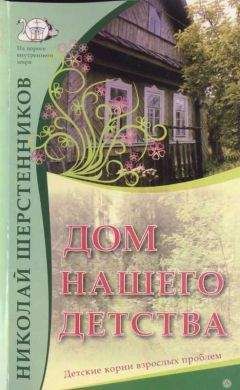Мирон Петровский - Книги нашего детства
В то же время к восприятию «Алисы» Толстой был хорошо подготовлен своей художнической любовью к эксцентрическим чудакам, ко всяческим алогизмам и нелепицам. К. Чуковский сопоставил любовь Толстого к эксцентрике с английской традицией нонсенса и показал, как они похожи. Но, не остановившись на этом, Чуковский со свойственной ему критической интуицией, производящей иногда впечатление интеллектуального фокуса, напророчил Толстому встречу с «Алисой» — за одиннадцать лет до «Буратино»:
«Поразителен был аппетит, проявленный Алексеем Толстым к подобным нелепицам в самом начале его литературной дороги, — писал К. Чуковский в статье 1924 года. — …Очевидно, эта чепуха ему дороже всего, потому что он с большим пиететом воспроизводит ее у себя на страницах. С таким же пиететом относимся к ней и мы… Она нередко бывала основой драгоценнейших литературных творений. Чудесный английский поэт Эдуард Лир безбоязненно назвал свою вдохновенную книгу „Книга Чепухи“ („The Book of the Nonsense“), и я не отдам этой книги за тысячу умных книг… И можно ли представить себе чепуху более откровенную, чем хотя бы „Алиса в волшебной стране“, а между тем это собрание гениальных нелепостей давно уже сделалось библией английских детей…»[269]
Сказка о Буратино, как губка, вобрала множеств откликов Толстого на культуру времен его писательской молодости — между первой русской революцией и Первой мировой войной, — а предисловие, отсылающее к детским впечатлениям писателя, предохраняет эту губку от слишком грубого выжимания. И все-таки в «Золотом ключике» (не вопреки всему сказанному, а лишь в дополнение к нему) есть отзвуки детства Толстого. Они открываются сопоставлением «Золотого ключика» с «Детством Никиты». Сопоставлением тем более обоснованным, что обе вещи — сказка и повесть — ставят знак равенства между двумя видами ностальгии: тоской по родной стране и по стране детства.
Такие сопоставления проводились, например: «Мальвина напоминает девочку с голубым бантом из повести „Детство Никиты“»[270]. Сходство действительно есть, хотя и довольно поверхностное: у одной голубые волосы, у другой — голубой бант. Гораздо глубже заходит сходство между «учительницей» Мальвиной и учителем Аркадием Ивановичем. Несмотря на некоторые несовпадения, перед нами удивительно похожие характеры в абсолютно совпадающих ситуациях. Урок, который Мальвина дает Буратино, и занятия Аркадия Ивановича с Никитой образуют выразительную параллель, словно перед нами две версии — сказочная и реалистическая — одного и того же события. Весьма вероятно — события из детства автора.
Буратино воспринимает задачу Мальвины точно так, как Никита — задачу Аркадия Ивановича: не отвлеченно-математически, а конкретно-чувственно. Оба ученика от математических абстракций «сбегают» в мир образов — туда, где важно не количество сукна в лавке купца и яблок в кармане мальчика, а сам купец — в длинном пыльном сюртуке, с желтым унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший, — и мальчик, который ни за что не отдаст «некту яблоко, хоть он дерись!». И Мальвина, и Аркадий Иванович от арифметики переходят к диктанту, который в обоих случаях заканчивается одинаково печально — кляксой. Конечно, это детские впечатления Алеши Толстого от занудных занятий были подарены Никите и Буратино.
Обретенный куклами театр открывает свою связь с детскими впечатлениями автора тоже через «Детство Никиты». Сказочный театр уже был описан Толстым в повести — как рождественская игрушка: «Были… такие искусники, что клеили, — она сама это видела, — настоящий замок с башнями, с винтовыми лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку». Это настолько похоже на театр, обретенный куклами в финале сказки, что сразу становится ясно: автор привел кукольных героев в прекрасную страну своего детства.
Но при всем том «Детство Никиты» написано человеком, который хорошо знает и помнит «Алису в Стране чудес»: «В это время загремели шаги, подошел Никита и просунул за марлю огромную руку; разжав пальцы, высыпал на подоконник мух и червяков. Желтухин в ужасе забился в угол, растопырил крылья, глядя на руку, но она повисла над головой и убралась за марлю… Когда Никита ушел, Желтухин оправился и стал думать: „Значит, он меня не съел, а мог. Значит, он птиц не ест“…»
В очаровательной иронии этой сцены откликнулись два эпизода из «Алисы». В одном девочка безуспешно доказывает, что она не змея и не съест птичьих яиц, в другом огромная рука Алисы нависает над Кроликом, испуганно рухнувшим на рамы парников, — как рука Никиты над Желтухиным, забившимся в щель между рамами окна. Этот второй эпизод изображен на картинке Дж. Тенниела, которая могла бы стать иллюстрацией к «Детству Никиты», если бы кролика на ней заменить Желтухиным.
В Москве 1935 года, перерабатывая сказку заново, насыщая ее лирикой и сатирой, Толстой сконцентрировал память на всех сопутствующих обстоятельствах — и житейского, и литературного свойства. Наблюдаемые художником объекты он сравнивал с теми стекляшками, которыми прикрывают цифры на карте лото, а «карта лото — это дремлющий во мне потенциал, — разъяснял Толстой. — Я буду бродить по свету, ища этих стекляшек…» Сделав мысленно поправку на неуместную механистичность этого сравнения, признаем, что на одну из цифр толстовского лото легла кэрролловская «стекляшка»…
VIIIОднажды на утренней прогулке по паркам Детского Села, где Толстой поселился после возвращения на родину, он сказал Наталье Крандиевской: «Кончится дело тем, что напишу когда-нибудь роман с привидениями, с подземельем, с зарытыми кладами, со всякой чертовщиной. С детских лет не утолена эта мечта…» А потом добавил: «Насчет привидений — это, конечно, ерунда. Но, знаешь, без фантастики скучно все же художнику»[271].
Свою детскую мечту о романе приключений Толстой удовлетворял всю жизнь — всем своим творчеством. Ничего он так не любил, как живописать героя, ставшего на путь приключений. Любимым героем писателя (в школьном понимании) называют того персонажа, который с наибольшей полнотой выражает точку зрения писателя, его взгляды, его представления о человеческом идеале. При таком подходе возникает смущающее противоречие: в любимцах оказывается персонаж-рупор, самое бледное и немощное из порождений писателя. Не правильней ли называть любимым героем того, кто больше соблазняет писателя как взывающая к изображению натура и кого он живописует с наибольшим художническим аппетитом?
Сотни разнообразных персонажей населяют книги Толстого, у каждого свое лицо и своя повадка, свой социальный статус и нравственный комплекс, но любой читатель, не лишенный художественного слуха, без труда заметит, как оживляется Толстой, как начинают играть под его рукой краски, какая улыбка лакомки, удовлетворяющего свою давнюю страсть, угадывается на его губах, едва только он добирается до героя, вышедшего (или выведенного) на дорогу приключений. Что, казалось бы, общего у «чудаков» раннего и «эмигрантов» зрелого Толстого, у Алексашки Меншикова и красноармейца Гусева, ренегата Азефа и временщика Распутина, знаменитого Калиостро и мелкой сошки Невзорова, очаровательного Телегина и отвратительного Махно, у Саньки Бровкиной и «гадюки» Ольги Вячеславовны?
Даже патологический скепсис не заставил бы нас подозревать Толстого в том, что Невзорова, Азефа и Распутина он любит так же, как Меншикова, Гусева и Телегина. Это неколебимо верно, если мыслить и тех и других как живых людей, вызывающих такое-то и такое-то наше человеческое отношение. Но если представить их объектами художества, натурой, которую изображает художник, то окажется, что и тех и других писатель одинаково любит живописать. Любит не столько любовью, сколько любованием.
Следовало бы определить тип любимого героя Толстого, но вот беда: слова «приключенец» — в значении «человек приключений» — в нашем языке нет, а слово «авантюрист» безнадежно скомпрометировано. Авантюрист для нас слово ругательное, и вряд ли возможно освободить его от этой эмоциональной окраски, да и нужно ли? Нам сейчас — нужно: если бы это удалось, слово авантюрист стало бы самым точным обозначением для любимого героя Толстого. Герой, выпавший из рутинного быта, идущий от одного похождения к другому, не уклоняющийся от приключений, встревающий в приключения, втягиваемый в них личными склонностями или ходом событий, — вот определенный самым широким образом любимец нашего писателя.
Если бы «Войну и мир» писал не Лев, а Алексей Толстой, то главным героем с неизбежностью оказался бы не Пьер Безухов или Андрей Болконский, не Кутузов или Наполеон, не Наташа Ростова и уж, конечно, не Платон Каратаев, а Васька Денисов. «Л. И. Толстая рассказывала, что незадолго до смерти Алексей Николаевич перечитывал „Войну и мир“ и говорил, что на месте Льва Толстого сократил бы книгу и что для него, А. Н. Толстого, самый интересный герой в ней — это Денисов, и что ему самому очень хотелось бы написать роман о Денисе Давыдове»[272].