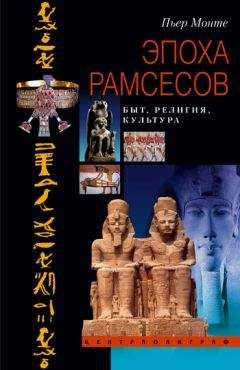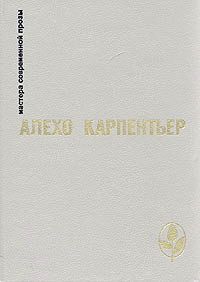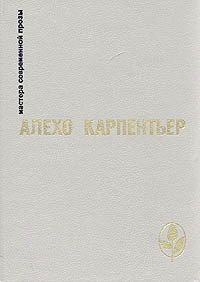Пьер Шоню - Цивилизация Просвещения
До 1762 года — ни единой фальшивой ноты. Политические размышления просветителей эффективны в той мере, в какой они принимают действительность, в той мере, в какой они укладываются в пределы умеренного эмпирического реформизма; они исходят, даже когда пытаются это скрыть, из модели, основанной на рациональном наблюдении за комплексной общественно-политической реальностью. После 1762 года Руссо вновь, и куда более энергично, обращается к гипотезе «договора». Надо ли напоминать, что у него тоже был свой, не называемый прямо образец — городское общество Женевы? На первый взгляд, Руссо занимал по отношению к Женеве ту же позицию, что и Локк по отношению к традиционной английской модели, Вольтер — к эпохе Людовика XIV или Монтескьё — к контрреволюции эпохи регентства. Но эта аналогия поверхностна; имплицитные модели Локка, Монтескьё и Вольтера были, так сказать, моделями вполне функциональными, тогда как женевская модель прямого народного правления представляла собой архаизм, пережиток прошлого на территории, где попытки создания крупного или среднего государства в силу исторических случайностей потерпели неудачу. По этой причине применительно к конкретной Европе второй половины XVIII века модель Руссо была нереалистичной и революционной. От вершин, достигнутых научной строгостью Монтескьё, он обратил европейскую политическую мысль в сторону утопии, утопии полезной, послужившей средством выражения преждевременных претензий мракобесов и ретроградов от эволюции. Своей архаичностью и профетическим духом французский вариант неизбежной буржуазной революции отчасти обязан Руссо. В брешь, пробитую «Общественным договором», хлынул поток утопий, отяготивший эпоху Просвещения реакционной и рецессивной идеологией; Габриэль Бонно де Мабли (1709–1785), брат Кондильяка, писал о «коммунизме, отмене частной собственности, воспитании, нацеленном на то, чтобы подготовить народ к равенству, упрощении религии, преподавании морали государством» — вот основные положения его программы, постепенно разрабатывавшейся в таких сочинениях, как «Беседы Фокиона об отношении морали к политике» (1763) и особенно «О законодательстве, или Принципы законов» (1776). Нетрудно оценить, насколько реакционным оказалось это утопическое течение, ядовитый нарост на теоретико-дедуктивной ветви конструктивных политических размышлений просветителей, в момент, когда английская экономика готовилась к решающему скачку и стремительному подъему.
Дидро дает достаточно полное представление о политике «Энциклопедии». Размышления — пожалуй, слишком короткие — о природе и устройстве государства, прагматизм эпохи Просвещения. Дидро был платным агентом Екатерины II. Мопертюи, Ламетри, Гримм, Гельвеций и a fortiori Вольтер, представители предыдущего поколения, были куда свободнее на службе у Фридриха II. В конце жизни, после вынужденного пребывания в России в 1773 году, Дидро разочаруется. Время увлекательных предприятий («Записки» для Екатерины II) прошло. Ему еще предстояло выпустить немного яду, проявить себя провидцем и испытать некоторое крушение иллюзий. Остановиться на этом значило бы судить о вещах поверхностно. Дидро есть Дидро, но союз между «Энциклопедией» и просвещенным абсолютизмом, который он скрепил своим «мистическим» браком с Екатериной Великой, так же как гораздо более достойный союз д’Аламбера с Фридрихом И, отражают глубинную реальность. Государство существует, оно — одна из важнейших реальностей Европы, один из ключей к ее величию и эффективности. Философия Просвещения — это философия социальной природы, она отказывается от невозможной систематики в пользу немедленного практического действия. В социальном смысле представители государства, по сути дела, становятся членами «партии». Или они, как в Англии и во Франции, действительно на три четверти солидарны с новыми идеями, или же, как Фридрих II и Екатерина, из тактических соображений делают вид, что входят в число адептов новой веры. В течение короткого времени государство и программа просветителей преследовали, в сущности, одни и те же цели. Элита философов-государственников жила на западе; они писали по-французски или по-английски. Настоящими же философами были те, кто говорил по-латыни или по-немецки. До Канта и Фихте политика никогда не была в центре их размышлений. Дождемся систематики Гегеля. Франкоязычные философы, пусть они иногда и выражают сомнения по поводу французского варианта административной монархии, которую они хотели бы модифицировать в английском духе, без всяких сомнений, служат идеологами просвещенного абсолютизма: его владения простираются где-то там, на окраинах Европы, в зонах роста, служить ему — значит помогать наверстывать отставание, задачи, стоящие перед ним, скорее экономические, нежели социальные, скорее административные, чем политические. Но просветителям нет до этого дела, они удовлетворяются видимостью. Они прагматики и реформисты, и потому в союзе между философией эпохи Просвещения и просвещенным абсолютизмом нет ничего удивительного: он всецело в природе вещей.
В политической истории эпохи Просвещения господствуют две политические модели, две формы государственности. Английская ограниченная монархия, государство, коренным образом перестроенное «Славной революцией», Англия Локка и Грегори Кинга, а вскоре — Англия акцидентной практики и логики кабинета, Англия триумфального роста торговли, нового земледелия, каналов и первых машин. И французская административная монархия, которую чиновники Кольбера довели до совершенства в эпоху Людовика XIV. Французская модель страдает от своей относительной древности. Англия, предлагаемая в качестве образца, — это Англия после 1688-го и, в особенности, после 1714 года, когда деятельности кабинета всячески способствовала атмосфера, созданная Ганноверской династией. Не следует поддаваться обману видимости: противопоставление Франции и Англии — игра ума французской и английской школ, французской даже в большей степени, чем английской. При сравнении с окраинами Европы различия между ними стираются. И французская, и английская модель — образцы эффективности; надо ли специально подчеркивать, что речь идет об эффективности монархических государств, опирающихся на прочные финансы, непобедимый флот и сильнейшую в мире регулярную армию?
Островная психология британцев не позволяет им использовать иную модель, кроме своей собственной. Якобитский ирредентизм может пониматься и как неприятие английского господства над кельтской периферией (Шотландией, Ирландией, северо-западом Англии) в рамках sectional division[64] — этого свидетельства относительной отсталости, выявляющего неравномерность роста. Во Франции чересчур склонны преуменьшать масштаб якобитской опасности: достаточно вспомнить размах движения 1715 года, неотступные страхи 1722-го, тревожные взгляды, которые долгое время бросались на Шотландию, Ирландию и континент. Часть политических комбинаций, разыгрываемых правительством на континенте, обусловлены признанием, быть может чрезмерным, реальной опасности. Да, прошло время Гоббса, который, не говоря об этом прямо, предлагал Стюартам абсолютизм французского образца. Английская политическая мысль отныне находит пример для подражания только в самой себе, а при необходимости — даже в конституционных экспериментах свободной и гибкой Америки.
Не то Франция: здесь политическая мысль балансирует между Англией и недавним прошлым. Да, монархия, но периода расцвета эпохи Людовика XIV; Вольтер восхищается эффективностью и буржуазным правительством, «Энциклопедия» разрабатывает миф о Генрихе IV, Монтескьё питает слабость к незавершенным формам XVI века; английская модель упоминается сквозь зубы, Монтескьё развенчивает ее в работе «О духе законов». Система государственных институтов определяется окружением: безусловно, географический детерминизм Монтескьё наивен и вынужден, он определяется динамикой исторического развития. Итак, воспроизвести модель нельзя. Англия служит образцом, английская модель — это английская модель, она подходит только для Англии, безупречность британского успеха может вдохновить законодателей и чиновников. Французская политическая мысль ищет для французской монархии собственных решений; она эффективна, следовательно, отличается умеренным реформизмом: разве интенданты эпохи Просвещения не превратили французскую провинцию в полигон для плодотворных экспериментов?
В свою очередь, Франция и Англия служат универсальной моделью для всей остальной Европы, функционирующей как огромная окраина, сознающей свое отставание, этой провинции двуглавой метрополии. На восточной и южной периферии Европы эта двухполюсность в действительности не означала, что Франция и Англия воспринимались там в одинаковой мере. Признаваемое французами превосходство английского опыта — свидетельство высокого развития. За пределами успешной срединной оси Европы лишь немногие светлые умы отдают предпочтение английским оттенкам перед французскими. Административная монархия Людовика XIV не выходит из головы у Фридриха II. Раздробленная Италия, Испания в процессе объединения, Мария-Терезия в Вене — все думают о Версале. Восточная Европа в XVIII веке все еще страдает от незавершенности государства; среди представителей элиты лишь немногие — впрочем, в Восточной Европе только элита способна мыслить в терминах государства — не отдают себе в этом ясного отчета. Ограничение прерогатив монарха, единственный двигатель административного устройства, остается роскошью; чтобы достичь этого, необходимо полностью завершить административное деление. Тяга к английской модели — чисто французское свойство. Европейская периферия по времени не совпадает со своим источником излучения. Благодаря незначительной доле архаичности французская модель выглядит более привлекательной и более доступной.