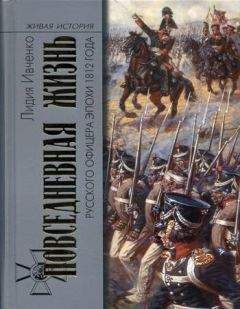Андрей Есин - Психологизм русской классической литературы
Раскрытие такой проблематики естественно вело к появлению в произведениях Достоевского глубокого психологизма. Своеобразие его психологического стиля во многом определялось и особым характером изображенных им героев. Как и у Толстого, герои у Достоевского разрешают проблемы, которые волнуют самого автора. Им свойственны, следовательно, исключительная философичность мышления, обостренная эмоциональная чуткость, неординарность внутреннего мира. Такие черты были необходимы для того, чтобы философская проблематика романа была поставлена и разрешена на авторитетном уровне.
Но если персонажи Толстого во многом погружены в конкретную бытовую жизнь, то герои Достоевского последовательны и целенаправленны в стремлении разрешить мучающие их «проклятые вопросы»: По выражению одного из персонажей, «им не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить». Практически-житейской стороной жизни они явно пренебрегают: Раскольников, как мы помним, совершенно не заботился об условиях своего существования, о платье, даже о еде – мысль его полностью сосредоточена на философской проблеме, не разрешив которую ему жить невозможно, – на проблеме нравственного самоопределения: «Тварь ли я дрожащая или право имею...»
Герои полностью поглощены своей «идеей». В научной литературе о Достоевском для таких персонажей сложилось обозначение «герой-идеолог». Это значит, что определенная «идея», концепция мира составляет сущность характера, вне ее героя невозможно представить. Человек определяется тем, как он понимает мир и себя в мире, и вся система изобразительных средств подчинена раскрытию «идеи» персонажа и показу ее динамики.
Обратим внимание на ряд связанных с героем-идеологом особенностей. «Идея» героя – это не только рациональное построение, логическая «казуистика»; это – сердцевина личности, она эмоционально переживается, захватывает целиком душевный мир человека. Отсюда небывалая в литературе острота и напряженность душевной жизни героев Достоевского, их идейно-нравственных поисков, полная сосредоточенность на своей «идее».
С другой стороны, «идея» героя никогда не выступает как непреложная истина даже для него самого, она всегда – проблема, гипотеза. Она требует проверки – и рациональным осмыслением с разных сторон, и эмоциональными переживаниями, и, главное, личной практикой, собственной судьбой. «Идея» эта, как правило, внутренне противоречива; противоречиво и эмоциональное отношение героя к ней; он то верит своей «мечте», то отвергает ее, то сомневается, то снова возвращается к ней с удвоенным энтузиазмом.
С первых же страниц романа мы погружаемся в противоречивую психологическую динамику: Раскольников идет «делать пробу» и в то же время говорит себе: «Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно». Но он, «несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, „безобразную“ мечту свою как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил». Называя свою мечту «безобразною», Раскольников тем не менее считает ее уже почти предприятием; говорит себе очень настойчиво, что не способен на это, а между тем знает, что только поддразнивает самого себя, что идея «преступления по теории» уже захватила его и определяет все его действия.
Делая «пробу», он уже подсознательно уверен, что дойдет и до «дела»: запоминает внутреннее расположение комнат, отмечает в четвертом этаже пустую квартиру («Это хорошо... на всякий случай...»), соображает, где могут лежать деньги, и т.п. Любопытен и такой штрих: Раскольников замечает, что комната старухи ярко освещена заходящим солнцем. «"И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!.." – как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова». Эта «невзначай» мелькнувшая мысль выдает уверенность героя в том, что роковое «тогда» непременно настанет, ясно указывает на его решимость совершить задуманное. Но через несколько минут после «пробы» состояние уже совершенно противоположное: «О Боже, как все это отвратительно! И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость! – прибавил он решительно. – И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!..»
На протяжении всего романа Раскольников будет переживать подобные колебания, сомнения, непрекращающуюся внутреннюю борьбу противоречий, которые странным образом сходятся: «И если бы даже случилось когда-нибудь так, что уже все до последней точки было бы им разобрано и решено окончательно и сомнений не оставалось бы уже более никаких, – то тут-то бы, кажется, он и отказался от всего, как от нелепости, чудовищности и невозможности».
Такое развитие философской идеи – через непрерывную смену душевных состояний, через воодушевление, сомнения, отчаяние – создает чрезвычайную интенсивность и напряженность внутренней жизни героя.
В разрешении нравственных вопросов герои Достоевского идут до конца, максимально заостряя философскую проблематику. Это также способствует тому, что внутренняя жизнь героев приобретает напряженность и остроту[45].
Надо отметить, что внутренний мир предстает в особом ракурсе: мы почти не увидим у Достоевского изображения нейтральных, обычных психологических состояний – душевная жизнь изображается в ее крайних проявлениях, в моменты наибольшей психологической напряженности. Герои всегда на грани нервного срыва, истерики, внезапной исповеди, бреда и т.п. Достоевский показывает нам внутреннюю жизнь человека в те моменты, когда максимально обострены мыслительные способности и чуткость эмоциональных реакций, когда переживание предельно интенсивно, когда внутреннее страдание почти невыносимо. Отметим и то, что Достоевский обычно сосредоточивает внимание на мучительных психологических состояниях. Тем самым акцентируется интенсивность идейно-нравственных поисков и личная, жизненная заинтересованность героя в истине. Идея проверяется собственной судьбой, философские искания пронизывают внутренний мир, а это всегда вызывает психологическую напряженность и душевную боль. «Страдание и боль всегда обязательны для глубокого сознания и широкого сердца», – говорит Раскольников, и он знает, что говорит: эта мысль тоже выстрадана собственным опытом.
Показывая психологические состояния в их максимальном развитии, а переживания и чувства в предельно обостренном виде, Достоевский проникал в самые глубинные пласты человеческой психики – обнажалась неисчерпаемая сложность натуры человека, ее бесконечная противоречивость. Изображение душевной жизни в полярной противоположности ее составляющих является другим важнейшим принципом психологизма Достоевского. Один из персонажей романа «Братья Карамазовы» говорит о карамазовской натуре, способной созерцать «две бездны разом»: бездну добра, любви, сострадания – и бездну зла, ненависти, разврата. Противоречивое единство этих «двух бездн» в душе человека и определяет рисунок внутреннего мира, именно к ним, к их обнаружению и стремится психологический анализ.
Поэтому и динамика внутренней жизни в изображении Достоевского носит особый характер. В отличие от Толстого он воспроизводит не столько «поступательное движение» внутреннего мира, сколько постоянные психологические колебания от одной крайности к другой, «маятниковые» движения сознания и подсознания между двумя безднами. В этом состоянии постоянно находится Раскольников: и когда он то отрекается от своей «безобразной мечты», то твердо решает ее осуществить; и когда, собираясь донести на себя, то застывает в покорном смирении, идет к Сонечке «за крестами», то вдруг впадает в «какое-то внезапное бешенство», более чем когда-либо убежденный, что преступления с его стороны не было, а была просто собственная «низость и бездарность»; и когда, «устыдясь через минуту своего досадливого жеста рукой Дуне», через минуту забывает об этом и восклицает: «О, как я их всех ненавижу!»
Противоречивость человеческого сознания и подсознания осваивается Достоевским, пожалуй, глубже, чем любым другим писателем XIX века. Он показывает не просто сосуществование и борьбу в душе героя противоположных мыслей, ощущений и желаний, но и их странный, парадоксальный переход друг в друга, когда в мучении и страдании есть своеобразное наслаждение, а в самой радости – что-то темное и тяжелое. «Он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная»; «Так мучил он себя и поддразнивал этими вопросами, даже с каким-то наслаждением»; «Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения, в котором между тем была часть наслаждения, – впрочем, мрачный, ужасно усталый»; «Прежнее, мучительно-страшное, безобразное ощущение начинало все ярче и живее припоминаться ему... и ему все приятнее и приятнее становилось». Подобных психологических парадоксов немало на страницах романа.