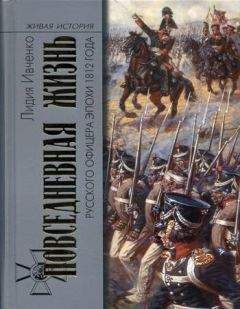Андрей Есин - Психологизм русской классической литературы
Все в нем самом и вокруг него представлялось ему запутанным, бессмысленным и отвратительным. Но в этом самом отвращении ко всему окружающему Пьер находил своего рода раздражающее наслаждение».
Внутренний монолог фиксирует конкретное, частное, а авторский психологический комментарий обобщает картину внутреннего мира, выделяет в ней главное, т.е. осуществляет собственно аналитическую работу. Герой знает про самого себя меньше, чем повествователь, не умеет так четко и точно выразить сцепление мыслей и ощущений, передать подробности, уловить ведущий эмоциональный тон. Поэтому авторский комментарий в системе толстовского психологизма абсолютно необходим, – только с его помощью можно достичь исчерпывающей полноты и ясности в изображении душевной жизни.
Кроме того, одной из важных задач Толстого-психолога было изобразить и раскрыть ту невольную неискренность, которая свойственна людям, их подсознательное стремление видеть себя лучше, а значит, интуитивно искать самооправданий. Человек не всегда скажет о самом себе правду, даже мысленно, – это Толстой очень хорошо знает и потому не до конца «доверяет» герою. Окончательно прояснить его внутренний мир, смысл и содержание психологических процессов может только сторонний всезнающий наблюдатель-комментатор. Форма повествования от третьего лица в таких ситуациях особенно необходима.
«"Хорошо бы было поехать к Курагину", – подумал он. Но тотчас же он вспомнил данное князю Андрею честное слово не бывать у Курагина.
Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось еще раз испытать эту столь знакомую ему беспутную жизнь, что он решился ехать».
Повествователь четко обозначил здесь доминанту внутреннего состояния: Пьеру очень хочется еще раз испытать это удовольствие, несмотря на данное слово, несмотря на то, что он знает, что поступает дурно. Это желание властвует, и весь остальной психологический мир незаметно, подсознательно подделывается под него – так мы и воспринимаем последующую наивную казуистику Пьера: «И тотчас же ему пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, потому что еще прежде, чем князю Андрею, он дал также князю Анатолю слово быть у него; наконец, он подумал, что все эти честные слова – такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет, или случится с ним что-нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честного, ни бесчестного». Иногда персонажи Толстого вообще не способны, в силу тех или иных причин, выразить свой внутренний мир, и он выражается несловесно – например, в мимическом движении. С позиций толстовских принципов психологизма такие ситуации тоже требуют комментария, потому что внешнее выражение может быть по-разному психологически интерпретировано, а Толстому нужна абсолютная ясность. Вот, например, портретный штрих в изображении Наташи после ее неудавшегося побега с Курагиным: «Она оглянулась на него, нахмурилась и с выражением холодного достоинства вышла из комнаты». Это «выражение холодного достоинства», пожалуй, более всего шокирует Пьера и заставляет его думать о Наташе «с презрением и даже отвращением». Но «он не знал, что душа Наташи была преисполнена отчаяния, стыда, унижения и что она не виновата была в том, что лицо ее нечаянно выражало спокойное достоинство и строгость» (курсив мой. – Л.Е.). Пьер, сторонний наблюдатель, не знал того, что знает всезнающий повествователь, чей комментарий здесь поэтому безусловно необходим.
В ключевые моменты нравственных переломов, когда герою открывается что-то чрезвычайно важное с точки зрения Толстого, автор вообще отказывается от воспроизведения внутреннего голоса героя, – все психологические процессы изображаются исключительно в рассказе повествователя. Автор как бы опять не доверяет слову героя, его умению сжато, обобщенно, но в то же время максимально ясно изобразить те душевные процессы, состояния и движения, в которых открывается истина или частица истины, – с этой задачей в состоянии справиться только слово автора, повествователя. Вот, например, изображение нравственных сдвигов в сознании Пьера, которые произошли во время плена:
«Он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде. Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою... он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путем мысли, – и все эти искания и попытки обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве. Те страшные минуты, которые он пережил во время казни, как будто смыли навсегда из его воображения и воспоминания тревожные мысли и чувства, прежде казавшиеся ему важными».
Авторское психологическое повествование играет безусловно решающую роль в системе толстовского психологизма. Из других повествовательных форм следует в первую очередь отметить, конечно, внутренний монолог, в построении которого, по всеобщему признанию, Толстому удалось достичь исключительного жизнеподобия и психологической достоверности, передать поток душевного состояния с присущими ему реальными закономерностями. Удивительная естественность толстовских внутренних монологов создает впечатление «подслушанных мыслей», реальной необработанности и прихотливости потока внутренней жизни. У психологического процесса своя логика, его развитие подчиняется интуиции, иррациональным ассоциациям, немотивированным на первый взгляд сближениям представлений и т.п. Все эти процессы с уникальной точностью запечатлены во внутренних монологах романа – в таких, например, как следующий:
«"Должно быть, снег – это пятно; пятно – une tache", – думал Ростов, – "Вот тебе и не таш..."
"Наташа, сестра, черные глаза. На... ташка... (Вот удивится, когда я ей скажу, как я увидал государя!) Наташку... ташку возьми... Да, бишь, что я думал? – не забыть. Как с государем говорить буду? Нет, не то – это завтра. Да, да! На ташку наступить... тупить нас – кого? Гусаров. А гусары и усы... По Тверской ехал этот гусар с усами, я еще подумал о нем, против самого Гурьева дома... Старик Гурьев... Эх, славный малый Денисов! Да, все это пустяки. Главное теперь – государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что-то сказать, да он не смел... Нет, это я не смел. Да это пустяки, а главное – не забывать, что я что-то нужное думал, да. На-ташку, нас-тупить, да, да, да. Это хорошо"».
Внутренний монолог здесь почти переходит в несколько иную форму изображения, которую в литературоведении называют «потоком сознания», – эта форма создает иллюзию абсолютно хаотичного, неупорядоченного движения мыслей и переживаний. «Поток сознания» начал активно применяться писателями-психологами только в XX веке; Толстой, таким образом, опередил художественное развитие психологизма лет на пятьдесят.
Исключительного жизнеподобия достигает Толстой и в такой форме психологического изображения, как сон. Сны часто применяются Толстым как форма изображения душевных движений (хотя и не играют в его психологизме такой роли, как у Чернышевского и Достоевского); они выполняют свою естественную функцию – раскрыть подсознательные процессы, игру сознания, неподконтрольную разуму. Своеобразие толстовского психологизма в том, что состояния сна, а также – и особенно – перехода от бодрствования к сну и обратно запечатлены Толстым в максимальном соответствии с реальными психическими закономерностями. Особенно удается Толстому передать характерное для сна слияние разнородных психических элементов в едином эмоциональном ощущении, как, например, в следующем, отрывке:
«"Кто они? Зачем они? Что им нужно? И когда все это кончится?" – думал Ростов, глядя на переменявшиеся перед ним тени. Боль в руке становилась все мучительнее. Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, и впечатление этих голосов и этих лиц и чувство одиночества сливались с чувством боли. Это они, эти солдаты, раненые и нераненые, – это они-то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его разломанной руке и плече. Чтобы избавиться от них, он закрыл глаза.
Он забылся на одну минуту, но в этот короткий промежуток забвения он видел во сне бесчисленное количество предметов: он видел свою мать и ее большую белую руку, видел худенькие плечи Сони, глаза и смех Наташи, и Денисова с его голосом и усами, и Телянина, и всю свою историю с Теляниным и Богданычем. Вся эта история была одно и то же, что этот солдат с резким голосом, и эта-то вся история и этот-то солдат так мучительно, неотступно держали, давили, и все в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраниться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно не болело, оно было бы здорово, ежели бы они не тянули его; но нельзя было избавиться от них».