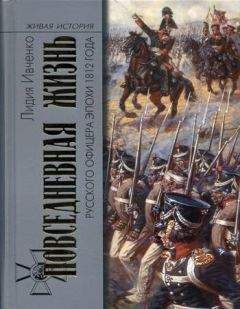Андрей Есин - Психологизм русской классической литературы
Толстой стремится и к тому, чтобы каждый элемент внутренней жизни был обозначен словом предельно точно, он чрезвычайно внимателен к нюансам чувств и переживаний. Точное обозначение словом тончайших душевных движений – задача чрезвычайно сложная, и в ее решении в полной мере проявилось мастерство Толстого как художника слова. Из стремления к максимальной словесной точности, в частности, в психологических описаниях Толстого появляется множество синонимов; их значения дополняют и уточняют друг друга, создавая более ясное представление о сущности переживания. Так, в приведенном выше отрывке чувство Пьера к Элен характеризуется словами «гадкое», «запрещенное», снова «гадкое», «противуестественное» и, наконец, «нечестное». Синонимы передают здесь важные оттенки нравственной оценки, уточняют интуитивное чувство Пьера. Обратим внимание и на точность отдельного толстовского слова в передаче психологических состояний: дважды повторенный эпитет «гадкое» из всех возможных синонимов («грязное», «отвратительное», «скверное» и т.п.), по-видимому, наиболее выразителен и эмоционален, он в наибольшей мере передает психологическое ощущение явственной и непреодолимой, хотя и затаенной брезгливости. К тому же из всего синонимического ряда слово «гадкое» наиболее свежо, а следовательно, воспринимается ярче и непосредственней.
В изображении основного стержня внутренней жизни, ее нравственной доминанты Толстой особенно стремится к точности, понятности и даже наглядности. Для этого писатель иногда прибегает к выразительным сравнениям и метафорам, уподобляющим психологическое состояние зримому явлению или процессу: «С той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора». Или: «О чем бы он ни начинал думать, он возвращался к одним и тем же вопросам, которых он не мог разрешить и не мог перестать задавать себе. Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, все на том же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его».
Заметим еще, что Толстому важно не столько индивидуализировать чувство и переживание как таковое (здесь он пользуется обычными обозначениями, типа: «страх», «злоба», «недоумение»), сколько сделать максимально ясным нравственный смысл этого чувства или переживания, поэтому Толстой всегда комментирует психологические состояния, объясняя их причину. При этом то, что неясно герою, получает в авторском освещении однозначное истолкование и объяснение. Проследим, как это делается, на примере душевного состояния Наташи во время и после первой встречи с Анатолем:
«Наташа несомненно знала, что он восхищается ею. И ей было это приятно, но почему-то ей тесно и тяжело становилось от его присутствия».
Первый этап анализа: максимально ясно обозначена противоречивость состояния, точно определена его эмоционально-нравственная основа при помощи слов «тесно и тяжело». Далее Толстой объясняет это «почему-то», находя причину состояния, непонятного для героини: «Глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между им и ею совсем нет той преграды стыдливости, которую она всегда чувствовала между собой и другими мужчинами». Вот причина «тесного и тяжелого» ощущения: интуитивно почувствованная безнравственность положения и собственных желаний. Но Толстой не останавливается на этом – он продолжает максимально подробно растолковывать, выявлять нравственный смысл психологического состояния:
«Ей постоянно казалось, что что-то неприличное она делает, говоря с ним... Она чувствовала, что в непонятных словах его был неприличный умысел... И опять она с ужасом чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды». Мы встречаемся здесь с любимым приемом Толстого: определяющая мысль, впечатление, отдельное слово, которым выражается нравственный смысл психологического состояния, настойчиво повторяется в изображении подвижного внутреннего мира, составляя его стержень, ядро, основу. Но аналитическая диалектика души продолжается:
«Приехав домой, Наташа могла ясно обдумать все то, что с ней было, и вдруг, вспомнив князя Андрея, она ужаснулась... Долго она сидела, закрыв раскрасневшееся лицо руками, стараясь дать себе ясный отчет в том, что было с нею, и не могла ни понять того, что с нею было, ни того, что она чувствовала. Все ей казалось темно, страшно и неясно». Снова эмоционально-нравственный смысл переживания уточняется с помощью синонимов; идет нагнетание однопорядковых эмоций: «неприлично», «страшно», «со страхом», «ужаснулась», «что-то мучило». Предельно ясным становится душевное противостояние, противоборство зла и добра, которое затем уточняется во внутреннем монологе, в котором Наташа ищет нравственного самооправдания и успокоения:
«Наташа одна сама с собой старалась разрешить то, что ее мучило.
"Погибла ли я для любви князя Андрея, или нет?" – спрашивала она себя и с успокоительною усмешкой отвечала себе: "Что я за дура, что я спрашиваю это? Что ж со мной было? Ничего... Стало быть, ясно, что ничего не случилось, что не в чем раскаиваться, что князь Андрей может любить меня и такою. Но какою такою? Ах, Боже, Боже мой! зачем его тут нет!"».
Обратим внимание на то, как тонко Толстой показывает, что в ходе логического самоуспокоения Наташа невольно проговаривается сама себе: если ничего не случилось, то откуда же выскочило это словечко такою, выделенное курсивом? И тут же Наташа замечает, что проговорилась, возмущенно реагируя: «Но какою такою?» Это – продолжение рационально-логических самооправданий, но уже поздно, уже слово вырвалось, смешав прежний ход мыслей, героиня уже не верит в самооправдания, интуитивно чувствуя правду; отсюда уже внерациональный, отчаянный внутренний выкрик, как зов на помощь: «Ах, Боже, Боже мой! зачем его тут нет!».
Картина психологического состояния воссоздана максимально подробно и точно, но, с точки зрения Толстого, все еще недостаточно ясно, поэтому в конце психологического фрагмента следует спрессованный в одну фразу авторский вывод, выделяющий главный нравственный стержень психологического процесса: «Наташа успокоивалась на мгновение, но потом опять какой-то инстинкт говорил ей, что, хотя все это и правда, и хотя ничего не было, – инстинкт говорил ей, что вся прежняя чистота любви ее к князю Андрею погибла».
На этом примере ясно видно еще одно важнейшее проявление принципа аналитического объяснения психических процессов и состояний: как бы долго и подробно Толстой ни описывал внутренний мир героя, в конце он обязательно сделает своего рода резюме, подведет нравственный итог данной фазе переживаний и размышлений, предельно четко и выразительно обозначив идейно-нравственную доминанту внутренней жизни героя. В этом проявляется постоянное стремление Толстого обнажать самый глубинный слой внутренней жизни – борьбу в душе героя добра и зла, любви и эгоизма, правды и лжи, естественности и фальши – словом, непосредственно раскрыть в психологических сценах и картинах нравственную проблематику своего романа.
Так, в конце долгого изображения внутреннего развития Пьера – в Торжке во время встречи и разговора с Баздеевым – Толстой точно и коротко формулирует главный итог этого развития, основное ощущение и основную мысль Пьера: «В душе его не оставалось ни следа прежних сомнений. Он твердо верил в возможность братства людей, соединенных с целью поддерживать друг друга на пути добродетели». А вот как подводится итог еще более длительному нравственному развитию Наташи после истории с Курагиным: «Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни – любовь – еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь».
В «Войне и мире», как и в других романах Толстого, представлена чрезвычайно богатая система форм и приемов изображения внутреннего мира. Можно сказать, что Толстой свободно использовал все средства психологического изображения, доступные литературе. Такого виртуозного владения изобразительными приемами психологизма мы не встретим, пожалуй, ни у одного писателя. Однако, в соответствии с общими принципами изображения внутреннего мира, некоторые способы в толстовском психологическом повествовании играют ключевую роль.
Это, в первую очередь, психологический анализ от лица всезнающего автора-повествователя. В «Войне и мире» эта форма организует все другие, является ведущей стихией повествования, непременно сопровождая любой иной прием психологического изображения. Даже внутренний монолог, в художественном построении которого Толстой достиг вершин мастерства, обязательно сопровождается авторским психологическим комментарием: «Слуга его подал ему разрезанную до половины книгу романа в письмах... Он стал читать... "И зачем она боролась против своего соблазнителя, – думал он, – когда она любила его? Не мог Бог вложить в ее душу стремления, противного ее воле. Моя бывшая жена не боролась, и, может быть, она была права. Ничего не найдено, – опять говорил себе Пьер, – ничего не продумано. Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости".