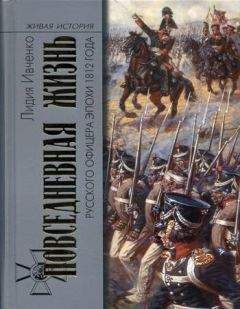Андрей Есин - Психологизм русской классической литературы
Не просто алогичные, а сознательно противоречащие логике поступки и душевные движения составляют основу внутренней жизни героев. «Назло себе», вообще «назло» неизвестно кому и чему, – это часто определяющий мотив действия. Вот, например, Разумихин, терзая себя угрызениями совести (именно «терзая себя»: нарочно растравляя свои душевные раны) за позорное, как ему кажется, поведение с Авдотьей Романовной, говоря себе, что «конечно, всех этих пакостей не закрасить и не загладить теперь никогда» и что «уж конечно, теперь все погибло», так готовится к встрече с ней: «Он осмотрел свой костюм тщательнее обыкновенного. Другого платья у него не было, а если бы и было, он, быть может, и не надел бы его, – "так, нарочно бы не надел"... Когда же дошло до вопроса: брить ли свою щетину иль нет... то вопрос с ожесточением даже был решен отрицательно: «Пусть так и остается! Ну, как подумают, что я выбрился для... да непременно же подумают! Да ни за что же на свете!»»
И... и, главное, он такой грубый, грязный, обращение у него трактирное; и... и, положим, он знает, что и он, ну хоть немного, да порядочный же человек... ну, так чем же тут гордиться, что порядочный человек?.. Ну да, черт! А пусть! Ну, и нарочно буду такой грязный, сальный, трактирный – и наплевать! Еще больше буду!» (курсив мой. – А.Е.).
Мало того, что душевная жизнь героя исполнена внутренними противоречиями и всяческими «нарочно», «и пусть», «и наплевать», весь «план поведения» Разумихина – это сплошное «назло»: ведь он уже любит Авдотью Романовну самой чистой и преданной любовью. Это – Разумихин, вообще-то не склонный к психологическим эксцессам и не отличающийся особой внутренней противоречивостью. Что же говорить про главного героя, наделенного этими свойствами с избытком! В его поведении и переживаниях мотив «действия вопреки» прослеживается постоянно и очень ясно – как, например, в следующем самоанализе:
«"Я это должен был знать, – думал он с горькою усмешкой, – и как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться. Я обязан был заранее знать... Э! да ведь я же заранее и знал!.." – прошептал он в отчаянии... "Эх, эстетическая я вошь, и больше ничего, – прибавил он вдруг рассмеявшись, как помешанный... – Потому, потому я окончательно вошь, – прибавил он, скрежеща зубами, – потому, что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу это себе уже после того, как убью!"».
Герой прекрасно знает свой внутренний мир, с самого начала осознает всю подсознательную логику своих настроений, с точностью предвидит, какие переживания вызовут в нем те или иные поступки, – и все-таки действует вопреки предвидению, вопреки, казалось бы, всякой очевидности, подчиняясь чему-то более глубокому в своей душе, «бездне», до которой даже психологический анализ не всегда дотягивается. «Заметим кстати одну особенность по поводу всех окончательных решений, уже принятых им в этом деле. Они имели одно странное свойство: чем окончательнее они становились, тем безобразнее, нелепее тотчас же становились и в его глазах. Несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, он никогда, ни на одно мгновение не мог уверовать в исполнимость своих замыслов». Стало быть, и ключевое действие – убийство – тоже совершено «вопреки»: вопреки осознанию «безобразия», «нелепости», вопреки даже отсутствию уверенности, хотя бы минутной.
«Я убежден, что слишком сознавать – это болезнь», – заявляет герой романа Достоевского «Записки из подполья». Главные герои «Преступления и наказания», и прежде всего Раскольников, «слишком сознают», и они на свой лад больны – буквально «больны идеей». Оттого их внутренний мир предельно чуток и напряжен, оттого он и так сложен, что временами сам автор отказывается исчерпывающе объяснить эту сложность, художественно осветить все тайны человеческой души.
Неисчерпаемость психологических глубин, невозможность до конца объяснить все душевные движения с давних пор художественно запечатлевались в лирике. Достоевский же был первым из писателей, кто художественно освоил эту глубинную непостижимость внутреннего мира в рамках эпического рода, т.е. в широком, подробном психологическом повествовании. Человеческая душа, по убеждению Достоевского, во многом необъяснима и загадочна, особенно в самых последних и подспудных ее пластах, и здесь самый проницательный психолог вынужден отступить. Непредсказуемость, не до конца постижимая сложность внутреннего мира постоянно подчеркиваются писателем при изображении Психологических состояний и процессов. Для их характеристики типичными являются слова и конструкции: «странно», «странное чувство», «неожиданно для себя», «как бы невольно», «какое-то непонятное ощущение» и т.п. Передаче психологических переломов почти всегда сопутствует слово «вдруг», да и сами изменения душевного состояния часто действительно внезапны и необъяснимы. Внутренний мир нередко представляет собой такой хаос разноплановых душевных движений, что в них не только самому герою, но и нейтральному повествователю разобраться очень сложно.
Иногда картина внутреннего мира дается Достоевским даже не как абсолютно достоверная, а как возможная, приблизительно точная: «Под конец он вдруг стал опять беспокоен; точно угрызение совести вдруг начало его мучить: "Вот сижу, песни слушаю, а разве то мне надобно делать!" – как будто подумал он» (курсив мой. – А.Е.). Точное обозначение душевных состояний в подавляющем большинстве случаев дополняется оговорками: слова «казалось», «как будто», «как бы», «словно», «почти» сопровождают психологическое описание постоянно: «Вдруг в сердце своем он ощутил почти радость»; «Скоро он впал как бы в глубокую задумчивость»; «...произнес Заметов почти в тревоге»; «Минутами он чувствовал, что как бы бредит»; «Странно, сон как будто все еще продолжался» и т.п. Такой прием придает картине внутреннего мира нечеткость, зыбкость; введением этих конструкций Достоевский как бы намекает на то, что внутреннее состояние героя значительно сложнее, чем можно передать точными словами, что оттенки чувства и состояния можно обозначить лишь с известной долей приближения.
Словом, в психологическом повествовании Достоевского внутренний мир предстает как объясненный и истолкованный не до конца; писатель намекает на существование таких темных глубин в душе человека, куда не достает луч даже самого изощренного психологического изображения. При этом, в отличие, например, от романтиков, загадочность внутреннего мира идет у него не от намеренной недосказанности, а наоборот: анализ стремится к исчерпывающе ясному знанию о душе человека и все же не достигает его. У романтиков была таинственность, у Достоевского – тайна. Писатель со своей стороны шел к освоению психологической достоверности: он показал душу человека во всей ее реальной глубине, объемности, временами неисчерпаемой сложности.
В этой связи надо сказать несколько слов о психологическом анализе в системе психологизма Достоевского. Разумеется, без подробного, расчленяющего изображения нельзя было обойтись, воспроизводя столь сложные и противоречивые состояния души, какие свойственны его героям, да и отмеченная выше «полнота самосознания» героя требовала аналитических форм. В этом поэтика психологического повествования Достоевского сходна с поэтикой Толстого. Однако в отличие от него Достоевский не стремится в анализе к исчерпывающей полноте, а установка на объяснение, присущая всякому анализу, ограничивается пониманием того, что глубинные психологические процессы вообще не могут быть объяснены и художественно запечатлены с рациональной четкостью[46]. Вот характерный образчик психологического повествования Достоевского, которое подробно-аналитично и в то же время не объясняет психологического мира до конца, оставляя самую глубину души неосвещенной:
«Все это его мучило, и в то же время ему было, как-то не до того. Странное дело, никто бы, может быть, не поверил этому, но о своей теперешней, немедленной судьбе он как-то слабо, рассеянно заботился. Его мучило что-то другое, гораздо более важное, чрезвычайное, – о нем же самом и ни о ком другом, но что-то другое, что-то главное. К тому же он чувствовал беспредельную нравственную усталость, хотя рассудок его в это утро работал лучше, чем во все эти последние дни».
Если представить себе подобный отрывок в системе психологизма Толстого, то за ним неизбежно последовал бы авторский комментарий, который раскрыл бы, прояснил для читателя то, что неясно самому герою, расставил бы нравственные акценты, подвел бы итог. Ничего этого у Достоевского нет. Психологический анализ не становится главной, универсальной и самой надежной формой постижения психологических состояний и процессов, он применяется во взаимодействии с другой важнейшей формой – воспроизведением эмоционального состояния в слитном, нерасчлененном виде[47]. Художественное внимание Достоевского распределяется между двумя задачами: во-первых, проанализировать сложные психологические состояния и процессы и, во-вторых, воссоздать в романе определенную психологическую атмосферу, а именно: атмосферу предельного психологического напряжения, часто страдания, душевной муки.