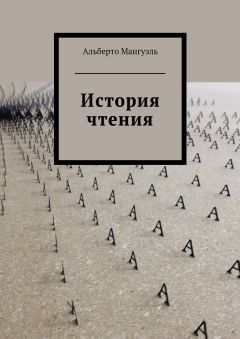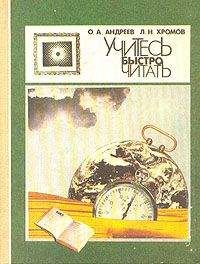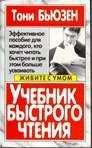Человек читающий. Значение книги для нашего существования - Хисген Рюд
Тексты как материальный объект можно коллекционировать. Их можно инвентаризировать и сортировать: на книжных полках или в списках, библиографиях и энциклопедиях. Таким образом, возникли столь важные институты, как архивы и библиотеки, подобные знаменитой библиотеке при «Александрийском мусейоне». Эта библиотека стала основой живой памяти эллинистического ученого мира. На протяжении нескольких веков она привлекала ученых из всех городов и весей, пока в 48 году до н. э. не погибла в пожаре. В этом хранилище мудрости повышали свою эрудицию, разумеется, только те, кто умел читать. А кто не умел, не мог принимать участия в обмене новейшими знаниями, необходимом для любого, кто претендовал на заметную роль в обществе.
О способах пополнения Александрийской библиотеки шла дурная слава. Библиотекарь собирал рукописи со всего античного мира, причем порой не очень-то честным способом. Гален сообщает, что все корабли, заходившие в Александрийский порт, подвергались тщательному досмотру и что все обнаруженные при этом рукописи конфисковались и отсылались в библиотеку. В обмен владелец рукописи получал только копию. Из Афин александрийский библиотекарь «брал почитать» свитки с произведениями греческих классиков. Но вопреки всем обещаниям он оставлял оригиналы себе, а в Афины посылал копии.
Римский философ Сенека (~ 4–65) возмущался явлением, которое встречается и сегодня, два тысячелетия спустя. Обладание книгой дает возможность ее владельцу не только прочитать ее, но и покрасоваться в лучах славы, окружающей любое книжное собрание — материальное воплощение знаний и культуры. Уже во времена Сенеки книга воспринималась как элемент роскоши, а ее владелец слыл богатым и культурным. Философ жаловался, что люди, не владеющие знаниями в объеме даже начальной школы, украшают книгами свою столовую, вместо того чтобы черпать из них мудрость[103]. Этот символический авторитет книги — один из столпов Книжного Миропорядка. До чего же люди науки любят давать интервью на фоне книжного шкафа! Во время пандемии ковида-19 многие генеральные директора поддались соблазну купить книги, чтобы во время совещаний по Зуму сидеть в красивом интерьере.
Фиксация мысли
Тот, кто записывает мысль, записывает ее в определенной формулировке. За счет этого создаются более или менее объективные формы знания. Ведь фиксация текста как объекта позволяет читателю штудировать текст более основательно, чем устное предание. В то же время запись текста на бумаге имеет и оборотную сторону. В устном диалоге собеседник адаптирует свои слова, порой непроизвольно, порой намеренно, к уровню собеседника и к обстоятельствам. А письменный текст, как образно выражается Сократ в записанном Платоном диалоге, отвечает на все вопросы заинтересованных учеников одно и то же: «Думаешь, будто они (записанные сочинения) говорят как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же»{25} («Федр»).
Так что тексты, говорит Сократ, это не более чем имитация живого диалога. Слова остаются постоянно одни и те же, но об их значении такого не скажешь. Разные люди в разное время могут понять слова по-разному. И даже если тот же читатель перечитывает тот же текст через несколько лет, те же самые фразы могут сказать ему нечто совсем другое. Особенно если момент чтения значительно отстоит во времени от момента написания, новый читатель воспримет словесное произведение иначе. Ибо успел измениться не только язык, но и культура.
Тo read or not to read{26}
Во многих германских и романских языках глагол «читать» восходит к латинскому legere и звучит похоже: lezen (нидерл.), lesen (нем.), lire (франц.), leer (исп.), ler (порт.), leggere (ит.), læse (датск.), läsa (шведск.), lese (норв.). Однако английский язык не стал заимствовать латинское слово и для обозначения понятия «читать» использовал исконно германский корень: прагерм. форма rād (raedanan), от которой в числе прочего произошли: др.-в. — нем. Rāt (совет), нем. Rat, др. — англ. ræd, нидерл. Raad, прагерм. rād восходит к праиндоевр. rei — «рассуждать, считать».
В нидерландском языке глагол «raden» наряду со значением «советовать» имеет также значение «отгадывать», что весьма характерно, ведь в Главе 2 было описано, какую важную роль играет отгадывание в процессе чтения.
Так что по прошествии времени записанный текст с большой долей вероятности может утратить свою релевантность (или, возможно, станет релевантным в новом, непредсказуемом смысле). Так что надо быть предельно осторожными. Возьмем Священные Писания крупных монотеистических религий. Они выполняли важную функцию и имели определенные значения в обстоятельствах, которых теперь уже не существует. Их постоянно комментировали — это всегда происходит со Священным Писанием, — но со временем культурная пропасть становится все шире и глубже. Слишком буквальное понимание священных книг ведет к догматизму и фундаментализму.
Согласно Евангелию, Понтий Пилат после распятия Иисуса прикрепил к кресту табличку с аббревиатурой фразы «Иисус Назарянин, Царь Иудейский». На латыни это выглядит как INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudæorum). Когда первосвященник иудейский Анан попросил Пилата удалить эту надпись, тот ответил: « Что я написал, то написал». Фраза Пилата в латинском варианте «Quod scripsi, scripsi» стала крылатой. Ее основное значение — нежелание менять свое намерение. Но в то же время эта крылатая фраза говорит и о проблеме, поставленной на повестку дня Платоном: сочинение, уже написанное, которое автор отдал в общественное пользование, не может быть изменено, даже если автор со временем отказался от своей точки зрения. Авторы постепенно начинают понимать, каким опасностям они себя подвергают, зафиксировав мысли раз и навсегда. Как мы видели в предыдущем параграфе, идеального читателя, способного понять мысли автора на основании текста, не существует, текст будет читать множество незнакомцев, у каждого из которых свой жизненный и читательский опыт. И эти потенциальные читатели живут не только здесь и сейчас, они будут жить и через много лет в разных концах света. Именно потому, что авторы не знают, кому и при каких обстоятельствах попадется на глаза их сочинение, они должны создавать такие тексты, которые, как говорит Платон, не будут «нуждаться в помощи своего отца» и будут способны сами защититься и помочь себе.
Научить текст защищать себя самостоятельно — удачная метафора. Чтобы сделать тексты более самодостаточными, писатели для начала постарались учесть вкусы неведомого читателя, как уже упоминалось в Главе 2. Вот как Сервантес (1547–1616) обращается к читателю в предисловии к роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605–1610):
Свободный от занятий читатель: без клятвы можешь поверить моему желанию, чтобы эта книга, дитя моего ума, была самая прекрасная, самая занимательная и самая совершенная, какую только вообразить можно. Но я не могу противостоять закону природы, по которому всякая вещь производит свое подобие{27}. (Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский)
Во-вторых, писатели разработали языковой инструментарий, при помощи которого можно лучше бороться с неправильной интерпретацией написанного. Можно даже утверждать, что именно благодаря письменности люди впервые поняли, что такое язык и сколь богатые возможности он предоставляет, если его сознательно использовать как инструмент для достижения цели[104]. Вследствие распространения письменности возникает потребность в стандартизации и кодификации языков. Более того, кодификация вообще может быть осуществлена только с помощью письменности. Наибольшей стандартизации с течением времени подвергается именно письменный язык. Значения слов, непрерывно меняющиеся, — всегда результат долгого общественно-исторического развития[105]. Значения могут быть зафиксированы в словарях, учебниках и справочниках. Поскольку любой, кто умеет читать, имеет возможность заглянуть в регламентирующие язык справочные пособия, письменный язык стал главным средством для недвусмысленной фиксации информации.