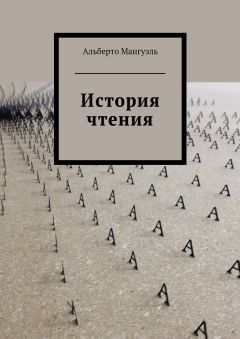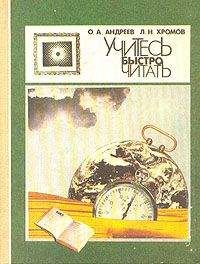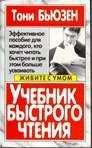Человек читающий. Значение книги для нашего существования - Хисген Рюд
Как мы видели ранее, Сократ, учитель Платона, возмущался свойством письменности фиксировать живое слово, подобно тому как энтомологическая булавка прикалывает редкую бабочку к странице коллекции. На протяжении тысячелетий к такому закреплению слов на том или ином носителе относились как к чему-то сомнительному. В настоящее время мы рассматриваем способность письма сохранять содержание как самое главное и само собой разумеющееся достижение письменности. Вместе с Уитни мы верим, что сказанное устно — унесет ветром, а написанное слово останется навсегда. В нашей культуре, основанной на письменности, тексты вездесущи и легкодоступны. Все, что имеет хоть какую-то важность, а также многое совершенно не важное, записывается на бумаге, печатается в книге, сохраняется, становится доступным для всех умеющих читать. Знания стали чем-то объективным и поддающимся проверке: мы можем установить их характер, объем, происхождение и ценность. С течением времени первоначальное недоверие к такому новому средству передачи информации, как письменность, сменилось глубочайшей верой в его полезность и важность, от повседневных списков покупок до завещаний и законов. Что написано пером, не вырубишь топором. Письменность — универсальная панацея от недолговечности.
Когда и где именно произошел такой переход от устной культуры к письменной, сказать невозможно. О ценности устного, рукописного и печатного слова писало бесконечное множество авторов в разные времена и в разных местах, и мнения их варьируются в широчайшем диапазоне. Чтобы дать общее представление, приведем несколько примеров. Возьмем следующее короткое, но очень яркое стихотворение Сапфо{30}:
Пускай мой стих не больше, чем дыханье,
Но он бессмертен.
Сапфо жила примерно с 630 по 575 год до н. э., когда в Греции только появилась письменность. Не вызывает сомнения, что ее вера в бессмертие живого устного слова осталась непоколебимой.
Через тысячу лет, в VI веке н. э., Исидор Севильский (560–636) дал в книге «Etymologiae» («Этимологии») следующее определение букв:
1. Буквы суть образы вещей, знаки слов, и их сила такова, что вещи, сказанные беззвучно, без голоса, отсутствующими людьми, мы все равно слышим. Буквы доносят до нас слова через глаза, а не через уши.
2. Употребление букв было изобретено для запоминания вещей: чтобы вещи не уходили в забвение, из букв стали составлять цепочки[110].
Значит, и для Исидора письменный текст ценен тем, что способен заменить устную речь. С одной стороны, буквы оживляют слова, даже если голос говорящего отсутствует. С другой стороны, буквы закрепляют слова, чтобы эти слова не оказались в забвении.
Вера в произнесенное слово, превосходящее по силе безжизненное написанное слово, сохранялась долгое время даже после того, как Гутенберг изобрел печатный станок. В апреле 1619 года, через тысячу лет после трактата Исидора и вскоре после похвалы печатной книге Джеффри Уитни, Джон Донн рассуждал в письме к графине Монтгомери о живом и мертвом языке. Дело в том, что графиня попросила прислать ей текст одной из его проповедей. Джон Донн отвечал так: «Я знаю, что написанные вещи — это, по сравнению с произносимыми вещами, мертвые трупы. <…> Но Дух Божий, диктующий слова через говорящего или пишущего и присутствующий в его языке или руке, вновь видит себя (как мы видим себя в зеркале) в глазах и сердцах слушателей и читателей, и этот Дух, всегда равно относящийся к своим равным приверженцам, делает писание и говорение равными средствами наставления»[111]. В принятии письменных и печатных текстов Англия долго отставала от материковой Европы.
Даже в наше время недоверие к письменному языку нет-нет да и поднимет голову. Американская писательница и активистка Ребекка Солнит (род. 1961) пишет:
Всякий раз, когда я записываю какое-то детское воспоминание, я его лишаюсь: оно перестает жить призрачной жизнью воспоминания и обретает четкость написанного текста, оно перестает быть моим, оно утрачивает ту подвижную неоднозначность, что присуща всему живому[112].
Приведенная цитата Солнит идет вразрез с общепринятым представлением о том, что обрывки наших воспоминаний стоит записывать, дабы избежать опасности забвения. Мы уверены, что произнесенные слова улетают, а написанные остаются. Такая уверенность одержала победу далеко не сразу, и трудно представить, что это могло бы произойти без изобретения книгопечатания с помощью свинцовых литер.
Гутенберг
Начиная с XII века письменность проникала во все большее количество областей, в первую очередь в административную, церковную и научную, но за их пределами общение по-прежнему проходило преимущественно устно. Лишь после середины XV века, когда Генсфляйш цур Ладен цум Гутенберг (как звучит его полное имя) представил современникам свое эпохальное изобретение, письмо стало стремительными темпами проникать во все сферы общественной жизни. Благодаря книгопечатанию почти все преимущества письменной формы языка поднялись на еще более высокий уровень. Так, способность письменных текстов перемещаться в пространстве значительно повысилась благодаря росту тиражей. Внешняя память как хранилище человеческой культуры стала разрастаться подобно капусте, причем к этому хранилищу получило доступ огромное количество людей. Соревнование между источниками знания, охватывающее все более разнообразные ресурсы, вело к росту объективности. Кроме перечисленного, после изобретения книгопечатания письменная форма языка приобрела еще несколько новых черт. Эти черты можно назвать «затактом Книжного Миропорядка».
Гутенберг даже не мог представить себе, что вся Западная Европа настолько увлечется чтением и что на этой основе возникнет Книжный Миропорядок. Зато он, несомненно, заметил еще в молодости, что в Европе того времени создавалось огромное количество рукописей: не только в монастырских скрипториях, но и в университетах и городских управах. Внимание Гутенберга-бизнесмена особенно привлекла такая разновидность рукописных документов, как индульгенции. И хотя изобретатель книгопечатания вошел в историю благодаря изданной им Библии («Библии Гутенберга»), с коммерческой точки зрение тиражирование индульгенций было намного выгоднее. В Средние века согрешившему человеку достаточно было купить индульгенцию, и он считался свободным от грехов. Церковь использовала индульгенции как способ добывать деньги, необходимые для дорогостоящих проектов: например, для войны против турок или строительства собора Святого Петра в Риме. Печатание индульгенций оказалось очень выгодной работой для типографа.
Изобретению Гутенберга не было равных — хотя изобрел он на самом деле не «книгопечатание». На самом деле первые печатные книги появились намного раньше: техника тиражирования информации путем оттиска с резных деревянных досок (ксилография) была известна задолго до него. И даже печатание с помощью подвижных литер не было по-настоящему новым. В Корее и в Китае этот способ печати придумали несколькими веками ранее. Настоящее изобретение Гутенберга заключалось в разработке системы для массового производства книг. Главным в этой системе были пригодные для многократного применения подвижные свинцовые литеры и большой деревянный пресс, который был сконструирован по аналогии с прессом для отжима винограда. Но нельзя забывать и о новой типографской краске, изготавливавшейся на основе растительного масла (вместо воды, применявшейся в ксилографии), о передвижных матрицах для отливки литер и об уникальном сплаве металлов для литер. Гутенберг, несомненно, долго экспериментировал, пока не нашел оптимальную пропорцию свинца, олова и сурьмы, сплав которых становился мягким при относительно низкой температуре, а после застывания был достаточно прочным, чтобы выдержать нагрузки при печатании всего тиража и сохранить свои свойства. К концу 40-х годов XV века станок был уже полностью пригоден к использованию. В 1453–1456 годах Гутенберг напечатал на нем тиражом, насколько известно, 180 экземпляров свою знаменитую латинскую Библию, в наши дни известную как «В42», или «42-строчная Библия» (на странице умещалось 42 строки).