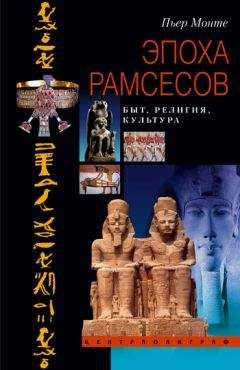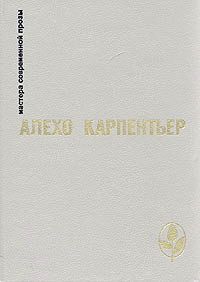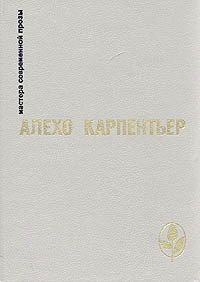Пьер Шоню - Цивилизация Просвещения
Сезонные колебания числа зачатий открывают увлекательную главу в коллективной психологии поведения: случаи возврата к прошлому. Сорокадневное воздержание в период Великого поста кажется одним из атрибутов средневековой аскезы. Статистически оно проявляется в ноябрьском спаде. Это было хорошо заметно в Англии XIV–XV веков. Во второй половине XVIII века отголоски такой практики еще сохраняются в Бретани и Анжу. По-видимому, разрушение традиции сексуального воздержания на время Великого поста произошло в XVI веке, когда правила коллективной аскезы были подвергнуты всеобщему сомнению. В католической прирейнской Германии XVIII века эта практика сохраняется в зеркальном отражении — в форме исключительной всеобщей раскованности во время Масленицы. Масленица, которая по традиции начиналась 11 января и в конце XVIII века нередко продолжалась вплоть до Средокрестья, в семейном кругу отмечалась как праздник плоти, результаты которого становились заметны девять месяцев спустя. Удивительное перемирие на этой жизнерадостной полосе рейнской Европы, на земле непростого Аугсбургского мира, между поклонниками свиной колбасы и мясопуста.
Возможно, отказ от аскетических традиций был не настолько всеобщим, как хотелось бы верить. Поразительная аномалия: почти полное отсутствие майских зачатий во многих приходах епархии Лизьё, весна наоборот, не объяснимая ни экономическими соображениями, ни разлукой супругов. Эхом откликаются случаи подобного поведения в других местах. Объяснение только одно: возврат к периодическому воздержанию, связанный с культом Богородицы, в атмосфере скрытого крипто-янсенизма, точнее — практического арнольдианства, ярким примером которого может служить плоская равнина Лизьё.
Знаменательная пора мая заслуживает пристального внимания во всей католической Европе: это ключ к одной из главных дверей. Майское воздержание открывает дорогу мальтузианскому coitus interruptus. Оно свидетельствует о резком обострении неприятия сексуальной жизни. В той самой епархии Лизьё епископ обрушивается на древний обычай воскресных свадеб. Несмотря на освящение, несмотря на церемонию благословения супружеского ложа, брак, то есть coitus, не может быть чистым; это опасная уступка. Янсенистский аскетизм, охотно подхвативший давний средневековый мотив, который уходит корнями в греческие истоки раннего христианства, противостоит ветхозаветной еврейской традиции, благосклонно воспринятой в протестантских землях, где она подкреплялась старинной тенденцией, связанной с буйством природы в долгие дни летнего солнцестояния. Нечистота неразрывно связана с самим актом, с внутренней грязью. Грязь связана с проникновением вглубь. Женщина получает нечистоту от мужчины и навсегда остается отмеченной ею; мужчина получает нечистоту от внутреннего соприкосновения с органом, выделяющим менструальную кровь — воплощенную нечистоту. Такова цена рождения. Муки материнства служат частичным очищением, но долгое истечение менструальной крови напоминает о неустранимое™ женской нечистоты. Согласно этой альбигойской сверхчувствительности, рождение не избавляет от нечистоты: наоборот, разве само рождение не является результатом глобального акта, сопровождающегося получением удовольствия в грязи? Таким образом, сексуальная аскеза в конце концов приводит к практике прерванного полового акта, даже к полному воздержанию, цель которых — избежать рождения детей. В той мере, в какой рождение ребенка свидетельствует о реальности полового акта, отсутствие рождения осознается как устранение его нечистоты. Разумеется, нет ничего более противного христианской теологии; однако психологический механизм этого сдвига вполне понятен.
Религиозная мораль XVII века, воплощение неоавгустинианства, смешанного с идеализмом в духе декартовского cogito, — это мораль чистоты: чистота на месте любви, чистота, а не смирение в щедрых дарах. Восемнадцатый век унаследовал эту концепцию христианской этики. Она проповедуется со всех амвонов, она влечет за собой религиозную аккультурацию катехизиса, сочинения, оказывающего действенное влияние на поведение. Мораль чистоты ведет к сексуальной ориентации, ориентации глубинной, в тот момент, когда вступает в свои права аскетизм new pattern брака, — вспомните кастрацию путем совершенно добровольного подавления сексуальной функции 40–50 % возрастной группы, имеющей возможность, желание и намерение вести половую жизнь и производить потомство. Сам Мальтус в 1798 году не придумал ничего другого, кроме усиления этой поразительной и в конечном счете великолепной коллективной аскезы. Подобный успех не мог быть достигнут без массовой переориентации желаний. Все усилия религиозного сообщества направлены на благословенное соблюдение целомудрия. Вне брака символом падения выступает ребенок — дитя греха, которое святой Винсент де Поль, воплощение милосердия, стремился вырвать из рук смерти (смерти, на которую новейшие строгие требования аристократической и городской этики чистоты обрекали это дитя греха, бывшее дитя любви, которого в XIV и XV веках спокойно принимали большие крестьянские семьи с их патриархальной толерантностью).
И вот новые формы вмешательства в брак: в конце XVII — начале XVIII века на грешников все чаще накладывают епитимью в виде долгого и жестокого воздержания; и вот здесь и там возникает странная идея в пору мая, месяца любви-страсти, посвященного возвышенной любви к Деве Марии, возродить оставленное еще в XVI веке очищение в форме воздержания. Не означает ли это, что в народном сознании утверждается восприятие брака как чего-то постыдного, что в связи с тайными и осуждаемыми сексуальными контактами формируется чувство вины? Последние работы на эту тему доказали, что с очень давних пор моральная теология предпочитала неполное совокупление естественному coitus’y.
В католических странах, захваченных неоавгустинианством (Франция, небольшая часть Северной Италии, Бельгия, Испания), перекос, обусловленный моралью чистоты, воздействие неловко проведенной катехизации в XVIII веке привели к повышению ценности такого испытанного и известного с незапамятных времен средства, как coitus interruptus. Такая обстановка допускала только одну форму контрацепции — отступление мужчины. Она исключала любые другие варианты, она не слишком поощряла первые попытки контрацепции с использованием посторонних предметов, которая впоследствии невозбранно утвердится в протестантских землях. С одной стороны, акт отвергался; с другой стороны — допускался. С одной стороны, экономические мотивы были отодвинуты на второй план; с другой стороны, они более свободно могли приниматься во внимание.
Итак, в наших руках ключ одновременно к двум разным формам коллективного поведения — английской и французской. В Англии в конце XVII века контрацепция была в ходу: вспомним пэров, вспомним падение рождаемости в Колитоне в таких масштабах, которые исключают всякое другое объяснение. Это тактическое средство, его применение не афишируется; как только обстановка улучшится, оно будет отброшено без всякого сожаления. Начиная с 1730-х, а особенно с 1750-х годов Франция и Англия расходятся. В псевдоаскетической неоавгустинианской атмосфере предохранение путем прерывания полового акта практически неискоренимо без радикального изменения образа чувств и мыслей. Экономические рычаги здесь бессильны. Этическая награда за отказ от жизни, расцветающая в таких условиях пышным цветом, — это яд, извращающий ценности и желания, пускающий корни и распространяющийся — этакий душевный сифилис. Когда около 1750 года церковь осознала масштаб подмены, а значит, степень опасности, она лишилась власти; ей все-таки удалось затормозить распространение этой практики в традиционно набожных районах (например, в Бретани), впрочем мало затронутых неоавгустинианским образом чувств; но она так и не сможет искоренить интеллектуально и морально чудовищную традицию наделять этической ценностью добровольное прерывание сексуального контакта между двумя людьми. Отказ иметь детей, обусловленный аскетизмом, а не гедонизмом, составляет специфическое извращение психологического климата Франции.
Незаметно мы достигли уровня переменных. Контрацепция применялась всегда и везде. Ее методы могут быть достаточно грубыми, ее использование может быть более или менее широко распространенным. В общем и целом она обычнее для городов, чем для сельской местности, она легче приживается в открытых странах, чем в закрытых, она характерна в первую очередь для тех стран, где из века в век обитает много людей, для стран, дольше и гуще населенных. Как мы помним, ее масштабы варьируют в среднем чуть больше, чем в соотношении два к одному. В рассматриваемых обществах, тяготеющих к позднему браку, отклонение от среднего значения может составлять пять лет без учета аристократических браков, как правило очень ранних, что, впрочем, компенсируется более важной ролью полного отказа женщин от замужества. Рост населения повсюду подчиняется некоему и поныне во многом загадочному ритму, относительно которого мы только начинаем понимать, что он выстраивается вокруг интервала, равного, как минимум, одному поколению. В Англии ускоренный рост объединил несколько поколений в продолжительный период всплеска — с 1750 по 1860 год.