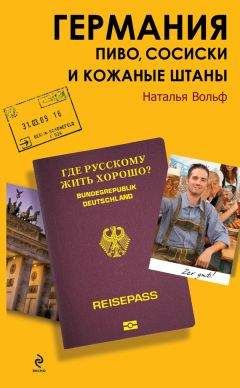Григорий Амелин - Миры и столкновенья Осипа Мандельштама
(I, 234-235)
Иконический образ “рыб звукопаса” и структура жертвоприношения примиряют непримиримое: палач превращается в жертву, а прежняя жертва спасает своих мучителей. И мучители, и жертвы принадлежат некоей общей ситуации, разделяют одну участь. Марина Цветаева писала:
Не отстать тебе. Я – острожник.
Ты – конвойный. Судьба одна.
И одна в пустоте порожней
Подорожная нам дана.
(I, 287)
Мандельштам настойчиво повторяет это “мы”, но сама эта общность, единство с Чапаевым там, где дышит почва и судьба, – его личная проблема (“мы” как проблема “я”), факт его самосознания и выбора. Как говорил Рембо: “Нужно быть решительно современным” (Il faut etre absolument modern). И Мандельштам – был. Мераб Мамардашвили в одном из интервью так говорил об этом стихотворении Мандельштама и его отношении к постреволюционной культуре:
« …Не имеет смысла жить ностальгией по прекрасной прошлой культуре и пытаться делать так, чтобы ностальгия была движущим мотором теперешнего творчества, потому что это необратимо ушло. Этого не восстановить, и, самое главное, завязать никаких связей с этим невозможно, между нами – пропасть, начиная с 1917 года. Случилась космическая катастрофа, и все рухнуло в пропасть, и я вот здесь, а это – там. И нет никаких путей, чтобы что-то делать сейчас с завязкой на это, культивируя это, восстанавливая и продолжая. Если что-то будет, то только одним способом – только из того, что есть. В том числе из того “ человеческого материала” (“ материал” – в кавычки, конечно, дикое выражение), который есть. Ниоткуда, из ностальгии и культивации архивных чувств, ничего родится не может. ‹…› Не из архивного, не из ностальгии, следовательно, а из – кто эти? И вот у Мандельштама появляется образ “ белозубых пушкинистов” , т.е. комсомольцев с винтовками, которые были конвоирами Мандельштама. Вот из этих. Вот о чем шла речь. Ощущение – быть с кем – было для него важно. Быть с этими. ‹…›
И поэтому, скажем, критики не замечают, все время упираясь в эту проблему: я болен, а все остальные здоровы, или: я здоров, а все остальные больны (на что решиться очень трудно, конечно). И какое-то время Мандельштам не решался якобы видеть в себе единственного здорового, а всех – больными, а потом, значит, преодолел это и объявил себя все-таки единственно здоровым, да? ‹…› Но было и другое, прямо не вытекающее из первого: момент вот этого историософского глубокого взгляда или взвешивания, где человек решался на то, чтобы не ностальгировать… ‹…›
Очевидно, как-то важно было не отличать себя от комсомольца, в том числе даже собственного конвоира, “белозубого пушкиниста”, который конвоировал Мандельштама и читал Пушкина. ‹…› Это возможное и глубокое философское решение, не либерально-интеллигентское, т.е. фактически не салонное и не кастовое, а философское. Неотличение, неотличение себя, но на этих вот основаниях”.
Такое поэтическое знание не может сделаться соразмерным времени, но полагает меру самому времени. Выбор был уже сделан: « …И Осип сказал: “ Я к смерти готов” » . Гробовое дно Армении. Уже ни тени обреченности и страха. И “son app? tit de la mort” – не безысходность, а ясное осознание выбора. Это то чувство собственного существования, которое не устанавливалось непосредственно и прямо, как у Пушкина, а восстанавливалось, и в первую очередь – благодаря Пушкину. Оно требовало усилия и выпрямительного вздоха, ибо не только имя поэта, но все его бытие – “криво звучит, а не прямо” (III, 88). По пушкинскому канону Мандельштам и устанавливает отвес и мировую ось своего собственного имени. Имя своей бытийной формой прорастало и прямилось цветущим, миндалевым стволом.
Отрицательный двойник “Опыта жеманного” – Пушкин. “…Ушибленных Пушкиным больше, чем усвоивших его”, – язвил Крученых. Но это не о Хлебникове. Крученых прекрасно почувствовал пушкинскую стихию этого стихотворения, не умея ее объяснить. “Как в неге прояснялась мысль!” (Пастернак). Явление отрицательного двойника “в виде неги” обусловлено двояко: во-первых, чисто языковым образом, звуковым сколком с лат. negatio – “отрицание”; во-вторых, пушкинским, о-негинским, так сказать, происхождением самого двойника.
В “Юбилейной пушкинской кантате” Анненский заклинал:
О тень, возлюбленная тень,
Покинь могилу и приди.
И она явилась Хлебникову. Сама встреча с тенью великого предшественника также восходит к Пушкину, наиболее ярко оформившему этот мотив применительно к Овидию. Но хлебниковский ритуал вызова тени существенно разнится с типовой схемой состязания старой и новой поэзии. У него общение с загробным миром имеет игривый и изнеженный характер, что как-то не вяжется с футуристическим кодексом дервиша. Жеманство – соревновательная и ревнивая поза в отношении к тому же Пушкину, который в черновом наброске 1825 года “О поэзии классической и романтической” заклеймил новое искусство за “какое-то жеманство, вовсе неизвестное древним”. Неоромантик Хлебников принимает вызов. Перед нами – “Опыт…” (Versuch), т.е. Хлебников продолжает оставаться естествоиспытателем, испытателем естества, натуралистом, сколь бы спиритуалистически жеманным этот опыт ни казался. Одна из первых академических статей Хлебникова так и называлась: “Опыт построения одного естественнонаучного понятия” (1910).
Поэтический опыт всегда строго хранил память своего естественнонаучного значения. Когда Мандельштам обращался к Батюшкову: “Вечные сны, как образчики крови, переливай из стакана в стакан”, он не только отсылал к названию его книги “Опыты в стихах и прозе”, но – что важнее – доводил это понятие до какого-то лабораторного, химического, вещественно осязаемого облика. Натурфилософское кровное родство поэзии и науки обозначено этим “опытом”.
В конце 1913 года Хлебников читает “гадательное” стихотворение “Песнь смущенного”, обращенное, как утверждает Ахматова, к ней:
На полотне из камней
Я черную хвою увидел.
Мне казалось, руки ее нет костяней,
Стучится в мой жизненный выдел.
Так рано? А странно: костяком
Прийти к вам вечерком
И, руку простирая длинную,
Наполнить созвездьем гостиную.
“Дух есть кость”, – говорил Гегель. Как и Мандельштам, Хлебников безусловно считал, что поэтическое бытие духа заключается именно в кости. Как и в “Опыте жеманного” – явление смерти. Гадание о своей судьбе происходит по разложенным на петербургском полотне камням и хвое. Бодлеровская легкость общения с загробным миром заставляет теперь поэта, ничуть не смущаясь, принять приглашение смерти и уже самому явиться из потустороннего мира на (званный?) вечер мертвецом, странным скелетом, простирающим руку “веткой Млечного пути”. “Особое изящество костяка, – как шутила Цветаева, – (ведь и скелет неравен скелету, не только души!)” (II, 132).
Подобным образом опишет себя Хлебников и в другом стихотворении:
Ты же, чей разум стекал,
Как седой водопад,
На пастушеский быт первой древности,
Кого числам внимал
И послушно скакал
Очарованный гад в кольцах ревности.
‹…›
Кто череп, рожденный отцом,
Буравчиком спокойно пробуравил
И в скважину надменно вставил
Росистую ветку Млечного Пути,
Чтоб щеголем в гости идти.
В чьем черепе, точно стакане,
Была росистая ветка черных небес,
И звезды несут вдохновенные дани
Ему, проницавшему полночи лес.
(II, 256)
Такие картины писал Павел Филонов, изображая человеческие лица, проступающие сквозь вязь улиц и зданий. Хлебников рисует автопортрет, собственное лицо, увиденное сквозь городской пейзаж:
Моя так разгадана книга лица:
На белом, на белом – два серые зня!
За мною, как серая пигалица,
Тоскует Москвы простыня.
На тоскующей простыне Москвы проступает лик поэта. Загадки серой пигалицы-столицы открываются в его глазницах. Как и Петербург, Москва – на живописном холсте, и в ней угадывается лицо. Почти сюрреалистическое щегольство поэта, который проделывает дырку в собственном черепе, чтобы вставить в нее ветку Млечного Пути, и отправляется в гости, несколько смущаясь подобной роли, останется совершенно непонятным, если не обратиться к Пушкину, – “родичу”, поэту, чья душа скитается, как голубь, и отражается в зеркале вод, “поет – моей души сестра”. В “Послании Дельвигу” Пушкин решает поведать “его готическую славу”:
Прими ж сей череп, Дельвиг, он
Принадлежит тебе по праву.
Обделай ты его, барон,
Изделье гроба преврати
В увеселительную чашу…
‹…›
В пирах домашних воскрешай,
Или как Гамлет-Баратынский
Над ним задумчиво мечтай…
(III, 28-29)
Поведанная Пушкиным история – веселый “макабрический” рассказ о том, как некий студент в Риге уговорил городского кистера похитить из фамильного склепа баронов Дельвигов скелет прадеда поэта. Посредине поэтического повествования Пушкин переходит на невольную прозу: “Я бы никак не осмелился оставить рифмы в эту поэтическую минуту, если бы твой прадед, коего гроб попался под руку студента, вздумал за себя вступиться, ‹…› погрозив ему костяным кулаком, ‹…› к несчастью похищенье совершилось благополучно. Студент по частям разобрал всего барона и набил карманы костями его. Возвратясь домой, он очень искусно связал их проволокою и таким образом составил себе скелет очень порядочный. Но вскоре молва о перенесении бароновых костей ‹…› разнеслася по городу. ‹…› Студент принужден был бежать из Риги, и как обстоятельства не позволяли ему брать с собою будущего, то, разобрав опять барона, раздарил он его своим друзьям” (III, 28).