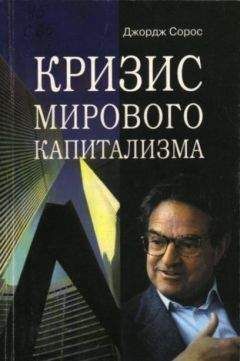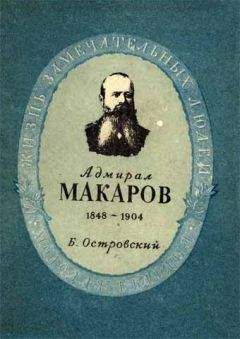Джордж Сорос - Первая волна мирового финансового кризиса
Теория рефлексивности не позволяет получить столь же однозначные результаты, как в физике Ньютона; скорее она выявляет наличие неопределенности, присущей ситуациям, участники которых действуют исходя из своего несовершенного знания. Финансовые рынки не склонны двигаться в сторону универсального равновесия — напротив, их участники часто предпринимают шаги в одном и том же направлении. На таких рынках присутствует элемент повторяемости, однако общая картина каждый раз выглядит неопределенной и уникальной. Таким образом, теория рефлексивности является частью теории истории. Вместе с тем ее вряд ли можно признать теорией в научном смысле, потому что она не дает объяснений и не позволяет делать прогнозы. Это, по сути, лишь концептуальная оболочка для понимания событий с участием людей. Тем не менее теория помогла мне впоследствии, когда я сам стал участником рынка. Гораздо позднее, когда успех на финансовых рынках позволил мне открыть собственный фонд, моя теория истории побудила меня заняться филантропией.
Мои философские изыскания не сильно помогли мне в годы студенчества. Я с трудом сдал выпускные экзамены. Возможно, я и предпочел бы остаться в безопасных академических стенах — более того, у меня были шансы получить место в университете штата Мичиган в городе Каламазу, однако мои оценки были слишком низкими, и мне пришлось выйти во внешний мир. После нескольких фальстартов я занялся арбитражными операциями, сначала в Лондоне, а затем в Нью-Йорке. Для начала пришлось забыть все выученное в годы студенчества, иначе я не смог бы успешно выполнять свою работу. Тем не менее обучение оказалось крайне полезным. К примеру, я применил теорию рефлексивности для разработки сценария потери равновесия в ходе циклов бум/спад на финансовых рынках. И мои усилия были вполне достойно вознаграждены, когда рынки вошли в стадию, которую я называю «территорией, далекой от равновесия» (в этот период все общепринятые модели равновесия потерпели крах). Я сосредоточился на выявлении ситуаций отсутствия равновесия и успешной игре в таких случаях. Накопленный опыт позволил мне опубликовать в 1987 году свою первую книгу «Алхимия финансов», где я изложил свой подход. Слово «алхимия» было использовано для того, чтобы еще раз подчеркнуть: моя теория не соответствует превалирующим в наше время требованиям к научному методу.
Достаточно спорным остается вопрос, в какой степени мой финансовый успех явился следствием моей философии, ведь теория рефлексивности не позволяет делать какие-либо определенные предсказания. Управление хеджевым фондом предполагает постоянное формирование умозаключений в условиях риска, а это может сопровождаться высоким уровнем стресса. У меня часто болела спина и присутствовали другие психосоматические виды боли — я получал от боли в спине столько же полезных сигналов, сколько от моей теории. И все же я придаю большое значение моей философии, и в особенности теории рефлексивности. Она так важна для меня и я ценю ее настолько, что мне было крайне сложно с ней расстаться, изложив на бумаге. Никакие формулировки не казались мне достойными или полными.
Мне казалось кощунственным излагать свою теорию в нескольких предложениях (подобно тому, как я сделал это несколькими строчками выше). Это должна была быть целая книга. Пытаясь разъяснить все до мелочей, я порой доходил до того, что с утра не мог понять написанного прошлой ночью. В итоге я оставил свои философские изыскания, вернулся к реальной жизни и стал всерьез зарабатывать деньги. Правда, у такого развития событий были и свои недостатки. Когда я впоследствии вновь обратился к моим исследованиям и опубликовал их результаты в «Алхимии финансов», то философская часть книги была расценена многими критиками как попытка самооправдания удачливого спекулянта. И вот тут-то я начал ощущать себя неудавшимся философом, однако продолжил гнуть свою линию. Однажды, читая лекцию в Венском университете, я озаглавил ее «Новая попытка неудавшегося философа». Лекция проходила в огромном зале, я смотрел на аудиторию с высоты кафедры. Вдруг я почувствовал непреодолимое желание сделать громкое заявление и провозгласил доктрину подверженности ошибкам. Это была лучшая часть моей лекции.
Проблемы с формулированием моих идей отчасти были связаны с концепциями подверженности ошибкам и рефлексивности, а также с тем, что я был недостаточно четок в формулировках и переоценивал личный опыт. В результате профессионалы, которым я бросал вызов, могли проигнорировать или выбросить из головы мои доводы лишь из-за технической неточности, не вдаваясь в суть аргументов. В то же время читатели могли легко пропустить мимо ушей мою не всегда корректную риторику и оценить сами идеи. Мои предположения казались справедливыми для участников финансовых рынков, стремившихся разобраться в причинах моего очевидного успеха, а расплывчатость формулировок придавала идеям еще большую прелесть. Такое положение вещей понравилось моему редактору, и он отказался править мою рукопись. Он хотел, чтобы книга стала предметом культа. И до сих пор «Алхимию финансов» читают участники рынка, по ней преподают в бизнес-школах, однако ее почти полностью игнорируют в академических кругах экономистов.
К сожалению, мое собственное восприятие себя как неудавшегося философа было взято на вооружение многими авторами, писавшими обо мне, включая моего биографа Майкла Кауфмана. Например, он процитировал слова моего сына Роберта:
Мой отец, удобно устроившись, будет рассказывать вам о теориях, объясняющих, почему он поступает так или иначе. Но я, помня такие картины с детства, думаю: «Господи боже, половина того, что он говорит, - полнейшая чепуха». Он может менять свою позицию на рынке только потому, что его начинают убивать боли в спине. Это не имеет ничего общего с рациональным мышлением. Его буквально сводит судорога, которую он расценивает как предупреждение. Если вы проведете рядом с ним достаточно много времени, то поймете, что он зачастую действует в соответствии со своим темпераментом. Но он постоянно пытается подвести под свои эмоции рациональную основу. Поэтому он если и не пытается игнорировать свое эмоциональное состояние, то хотя бы придает ему рациональную окраску. И это очень забавно.
У меня самого много сомнений. Хотя я серьезно отношусь к своей философии, но совсем не уверен в том, что сказанное мной заслуживает пристального внимания других. Я знал, что лично для меня это важно, но сомневался, имеет ли это объективную ценность для других. Теория рефлексивности говорит о связи между реальностью и представлением о ней, а на эту тему философы спорили веками. Можно ли сказать по этому вопросу что-то действительно новое и оригинальное? Если мы способны наблюдать действие когнитивных функций (сognitive function) или функций участников (participating function), то есть эффект их присутствия в реальной жизни, в чем же тогда оригинальность теории рефлексивности? Она уже существует — возможно, лишь под другими названиями. И тот факт, что я не особенно подробно изучал литературу по этому вопросу, лишь ослаблял мою уверенность. Тем не менее я очень хотел, чтобы меня как философа воспринимали всерьез, и это желание стало помехой. Я чувствовал себя обязанным продолжать разъяснять мою философию, потому что, с моей точки зрения, ее неправильно понимали. Вектор всех моих книг был направлен в одну сторону. Все книги пересказывали мою теорию истории — обычно это делалось ближе к концу, для того чтобы не разочаровать читателей раньше времени. Кроме того, я старался увязать теорию с современным историческим этапом. Со временем я смог преодолеть нежелание расстаться с концепцией рефлексивности, поэтому мне стало легче излагать мою философию в более сжатом и, надеюсь, ясном виде. В моей последней книге «Эпоха ошибок» философия была выдвинута на первый план. Я решил сделать последнюю попытку рассказать о ней (не знаю, правильно это или нет), но все равно сомневался, заслуживала ли моя философия того, чтобы ее принимали всерьез.
Затем случилось нечто, заставившее меня изменить свою точку зрения. Я пытался ответить на вопрос: как получилось, что пропагандистские технологии, описанные в романе Оруэлла «1984», оказались столь успешными в современной Америке? В книге был описан Старший Брат, следящий за каждым из нас, рассказывалось о министерстве правды и репрессивном аппарате, предназначенном для борьбы с инакомыслящими. В современной Америке существуют свобода мысли и средства массовой информации, имеющие различные точки зрения. Тем не менее администрации Буша удалось направить людей по неверному пути, используя оруэлловский «новояз». Внезапно меня осенило, что концепция рефлексивности способна пролить новый свет на этот вопрос. До тех пор я предполагал, что «новояз» может существовать только в закрытых обществах, подобных описанному в книге «1984». При этом я бездумно соглашался с аргументацией Карла Поппера в пользу открытого общества, а именно с тем, что свобода мысли и ее изъявления должны приводить к более глубокому постижению реальности. Аргументация Поппера основывалась на невысказанном предположении, что политическая деятельность направлена на лучшее понимание картины мира.